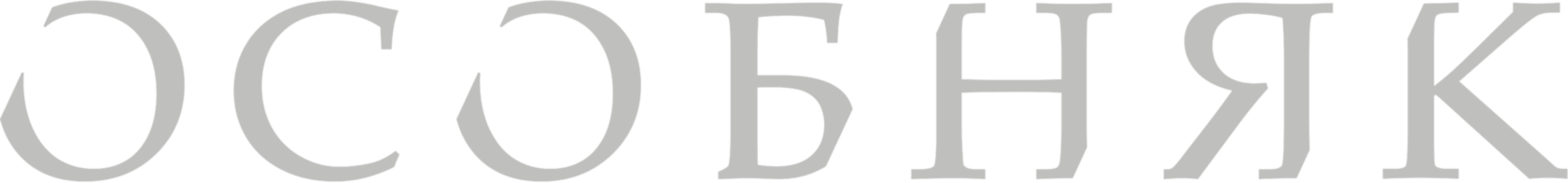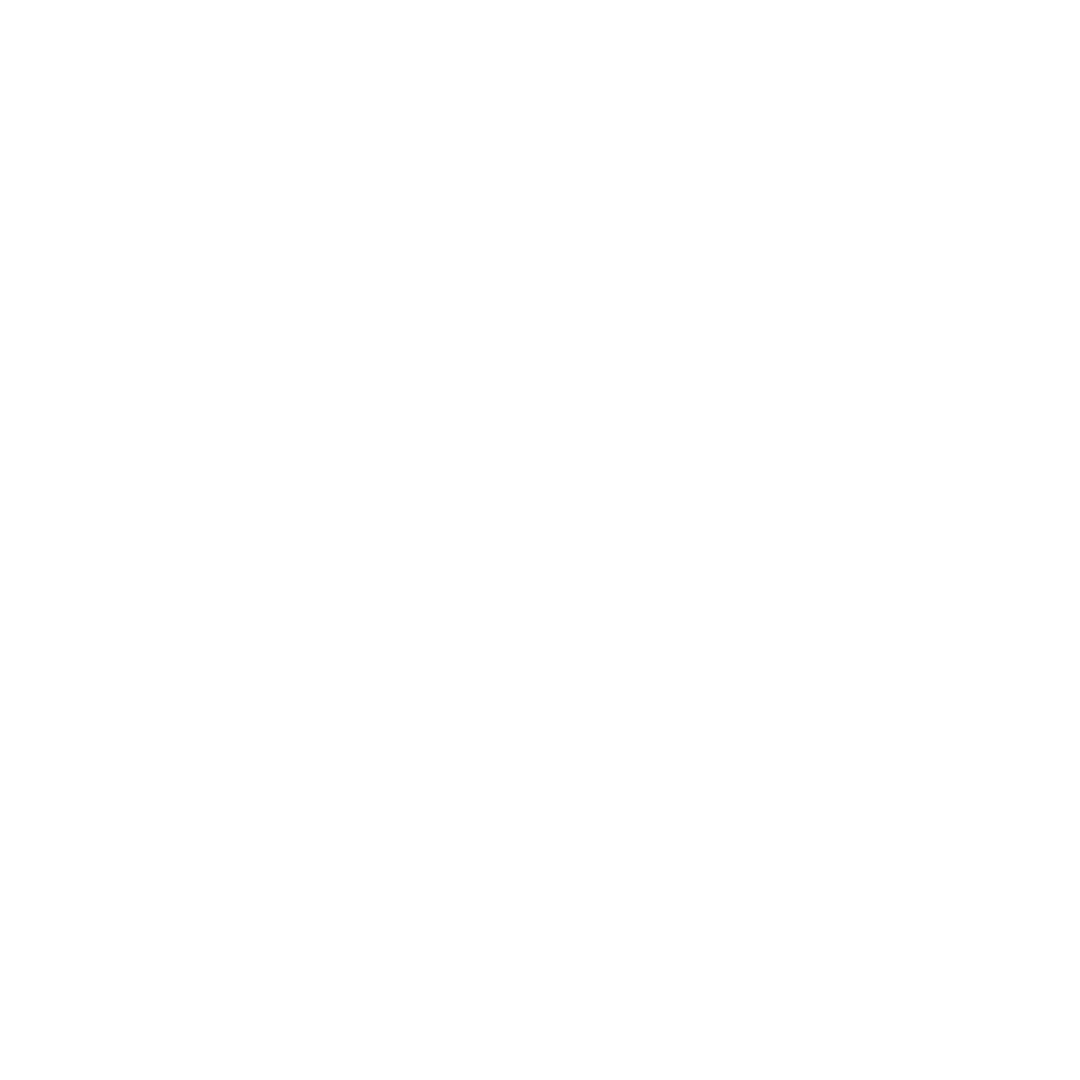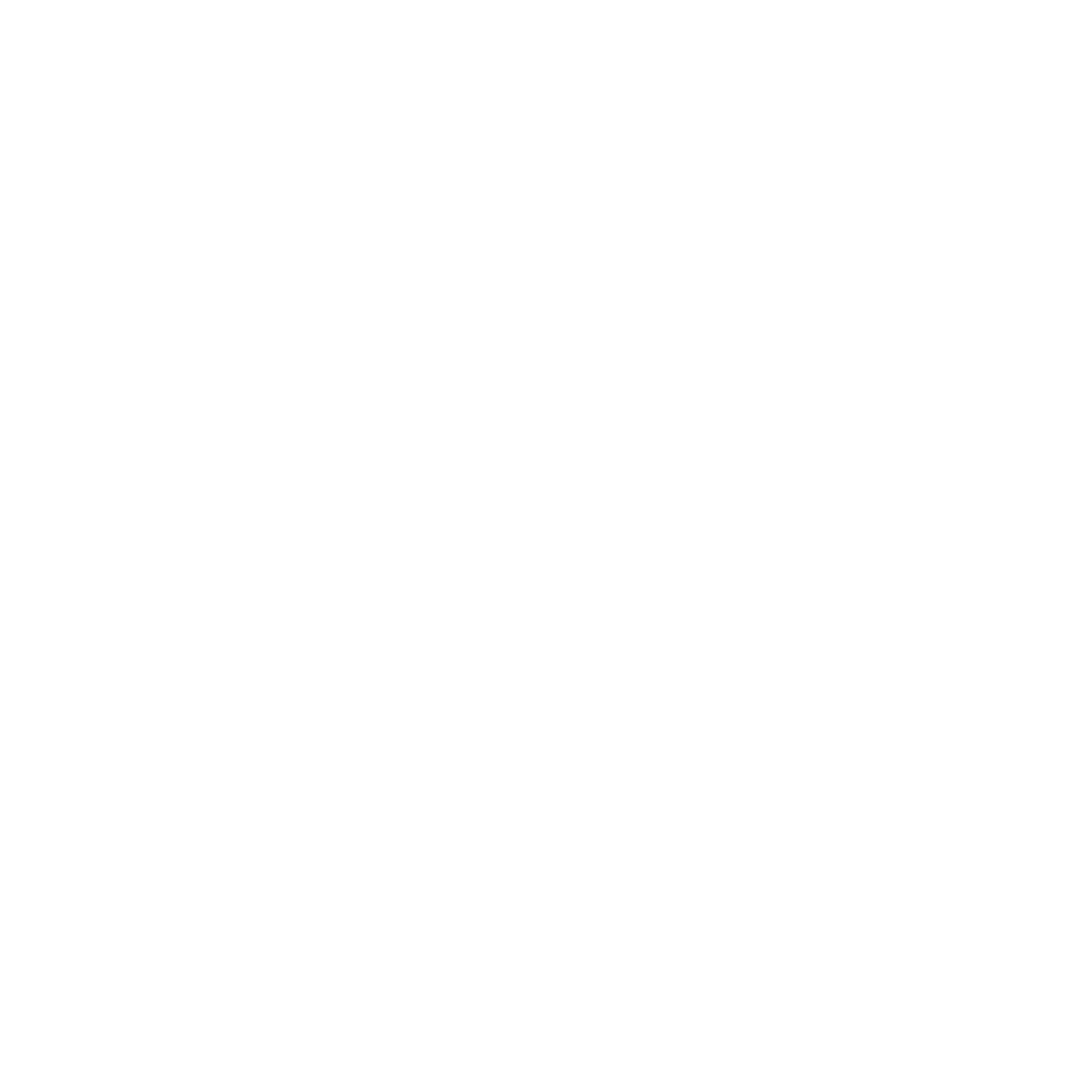ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЛЕКТОРИЙ
Лонгриды о театральном искусстве
Особняк.Театр
О лекциях
Современный театр — это круто, актуально и совершенно не страшно. А ещё чем больше о нём знаешь — тем больше начинаешь любить.
Поэтому несколько лет назад мы завели в социальных сетях рубрику «Пост-пост, мета-мета: о современном театре на человеческом языке». В ней мы рассказываем о самых главных особенностях нового театра, отвечаем на популярные вопросы. И просто делимся забавными фактами из истории, которые помогают понять, что то, что кажется нам супер-авангардным на самом деле было придумано пару веков назад (минимум), а «классический театр» — категория эфемерная.
На этой странице — несколько лонгридов, каждый примерно на 10 минут чтения. Выбрали самые общие темы: разбираемся с режиссурой и жанрами, рассказываем, кто такой перформанс. А ещё объясняем, почему Гамлет-женщина — это классно, и что делать, если вы посмотрели спектакль и совершенно не понимаете, что это было.
Новые разборы будут появляться примерно раз в месяц. Сразу же их можно будет прочитать в наших соцсетях и чуть позже — на этой странице.
Поэтому несколько лет назад мы завели в социальных сетях рубрику «Пост-пост, мета-мета: о современном театре на человеческом языке». В ней мы рассказываем о самых главных особенностях нового театра, отвечаем на популярные вопросы. И просто делимся забавными фактами из истории, которые помогают понять, что то, что кажется нам супер-авангардным на самом деле было придумано пару веков назад (минимум), а «классический театр» — категория эфемерная.
На этой странице — несколько лонгридов, каждый примерно на 10 минут чтения. Выбрали самые общие темы: разбираемся с режиссурой и жанрами, рассказываем, кто такой перформанс. А ещё объясняем, почему Гамлет-женщина — это классно, и что делать, если вы посмотрели спектакль и совершенно не понимаете, что это было.
Новые разборы будут появляться примерно раз в месяц. Сразу же их можно будет прочитать в наших соцсетях и чуть позже — на этой странице.
Выберите лекцию

Что такое режиссура
Рассказываем о человеке, без которого артист не сыграет, сценограф не нарисует, а композитор не напишет.

Где увидеть классическую постановку
Нигде! Почему?? Если коротко: потому что классики в театре не существует.

Жанр
Что это такое, какие жанры бывают в природе и почему их всегда пишут в программке. Короткий разбор на человеческом языке.
Что такое режиссура
Режиссура — пункт номер один почти в любом серьёзном разборе почти любого спектакля. Плохая, хорошая, слабая, новаторская, вялая, жёсткая, странная — каких эпитетов только не услышишь.
Но, согласитесь, есть в этом некий сюр. Вроде, понятно, о чём речь, когда говорят про актёрскую игру. Вот он, живой человек на сцене, три часа ты на него смотришь. Да и работу сценографа и композитора тоже трудно не заметить.
А режиссёра если и увидишь, то только на поклонах (если премьера). А скорее всего — только на картинках в интернете.
Так кто это всё-таки такой и почему без него — никуда?
У греков режиссёров не было, да и у Островского тоже
От Возрождения до конца XIX века театр был актёрским. Вот, например, очень известный в XIX веке актёр Павел Мочалов играл Гамлета в 1837 г. — и зрителям было абсолютно по барабану, что стоит на сцене, что из себя представляют другие персонажи, как вообще выглядит спектакль. Все смотрят на Мочалова и радуются.
А Мочалова, в свою очередь, не очень беспокоил спектакль как целое. У него есть роль, у роли есть своя драматургия, а всё остальное — фон. Совершенно нормальная ситуация, таковы были актёры по всему миру.
Но что-то пошло не так
В один прекрасный день французский театральный деятель Орельен-Мари Люнье-По догадался, что актёр — не центр спектакля, но одна из его составных частей. А значит, пластику актёра можно «согласовать» с декорациями, а музыку — с его голосом. Или наоборот.
Через несколько лет, в 1898 г., к этой же мысли пришёл Станиславский. Оказывается, актёров можно организовать в ансамбль и распределить сильные доли в его игре, как в музыкальном произведении — чтобы не только главная тема была слышна, но и контртема, и контекст.
Почему нельзя просто выйти и «сыграть то, что написано»?
Художественное произведение — это совокупность образов. В литературе образы состоят из слов, в музыке — из звуков, в живописи — из визуальных элементов. А в театре — из сочетания слов, пластики, мимики, жестов, музыки, голоса, сценографии, света.
Даже если в пьесе чёрным по белому написано, как выглядят герои и пространство (Ибсен такое любил, например), на сцене это всё равно можно показать сотней разных способов.
К тому же, реальность сцены всегда условна — просто потому, что есть зрители. А если есть условность, значит, есть и какие-то правила игры. И нужен человек, который их определит.
Монтаж
…есть не только в кино, но и в театре. Время ведь тоже, как правило, условно и реальным трём-четырём часам, что мы проводим в зале, не соответствует.
К тому же — и это нам тоже знакомо по кино — способ монтажа в целом очень влияет на то, какие в итоге смыслы считывает зритель. Резко сменяются сцены или плавно? Похожи ли они по уровню экспрессии, атмосфере или, наоборот, противоположны? Всё это работает и в театр.
Так появляется необходимость в человеке, который смоделирует спектакль как целое.
А почему актёры сами не могут придумать?
Теоретически могут, но это трудно: нужно одновременно вести свою линию в спектакле и держать в голове некий общий план происходящего на сцене. Особенно сложно, если режиссёр определяет для себя большую роль: важно не заглушить ненароком всех остальных участников действия. Если это, конечно, не концепция.
Впрочем, это скорее общая тенденция — конечно, есть примеры очень интересных спектаклей, где на сцену выходит и режиссёр в том числе.
Как это понимать
Попробуйте посмотреть на спектакль как будто бы сверху. Обратите внимание и на то, как воспринимается при просмотре время. Если смотреть легко (при том, что тема, например, совсем не весёлая), значит, с монтажом и сценическим ритмом у режиссёра всё в порядке.
Что было сделано с материалом, насколько верны создатели спектакля букве первоисточника или текст вообще не узнать? Насколько предложенное режиссёром виденье самостоятельно и интересно? Это самодостаточный мир, о котором можно долго размышлять или это вообще не мир?
И всё-таки посмотрите на актёров. В целом…
Некоторые режиссёры конкретно парятся и буквально обращают артистов в свою веру, проводя тренинги — безумные и не очень. Известен этим, например, Анатолий Васильев. При таком раскладе вы явно заметите, что все артисты на сцене существуют по каким-то похожим законам, их что-то объединяет. Да и в менее радикальных случаях результаты партнёрства всё равно будут заметны.
Насколько актёры слышат друг друга? Объединяет ли их только система персонажей или они и играют как-то по-особенному?
… и конкретно
Обратите внимание и на главных персонажей. Дать задачу и направить исполнителя ведущей роли — одна из прямых обязанностей режиссёра. Тем более, что в спектаклях типа «Гамлета» трактовка образа главного героя — половина концепции и смысловой нагрузки (как правило). А уж смыслы и трактовки именно режиссёр почти всегда и берёт на себя.
Кстати, лайфхак для любопытных: можно ещё посмотреть на одного актёра в спектаклях разных режиссёров. Наверняка вы обратите внимание на странную закономерность: у режиссёра А этот актёр невероятно интересен и почти гениален, при этом у режиссёров B, C, и D его и не видно. В ком же дело — в актёре? Вовсе нет — в режиссёре!
Но, согласитесь, есть в этом некий сюр. Вроде, понятно, о чём речь, когда говорят про актёрскую игру. Вот он, живой человек на сцене, три часа ты на него смотришь. Да и работу сценографа и композитора тоже трудно не заметить.
А режиссёра если и увидишь, то только на поклонах (если премьера). А скорее всего — только на картинках в интернете.
Так кто это всё-таки такой и почему без него — никуда?
У греков режиссёров не было, да и у Островского тоже
От Возрождения до конца XIX века театр был актёрским. Вот, например, очень известный в XIX веке актёр Павел Мочалов играл Гамлета в 1837 г. — и зрителям было абсолютно по барабану, что стоит на сцене, что из себя представляют другие персонажи, как вообще выглядит спектакль. Все смотрят на Мочалова и радуются.
А Мочалова, в свою очередь, не очень беспокоил спектакль как целое. У него есть роль, у роли есть своя драматургия, а всё остальное — фон. Совершенно нормальная ситуация, таковы были актёры по всему миру.
Но что-то пошло не так
В один прекрасный день французский театральный деятель Орельен-Мари Люнье-По догадался, что актёр — не центр спектакля, но одна из его составных частей. А значит, пластику актёра можно «согласовать» с декорациями, а музыку — с его голосом. Или наоборот.
Через несколько лет, в 1898 г., к этой же мысли пришёл Станиславский. Оказывается, актёров можно организовать в ансамбль и распределить сильные доли в его игре, как в музыкальном произведении — чтобы не только главная тема была слышна, но и контртема, и контекст.
Почему нельзя просто выйти и «сыграть то, что написано»?
Художественное произведение — это совокупность образов. В литературе образы состоят из слов, в музыке — из звуков, в живописи — из визуальных элементов. А в театре — из сочетания слов, пластики, мимики, жестов, музыки, голоса, сценографии, света.
Даже если в пьесе чёрным по белому написано, как выглядят герои и пространство (Ибсен такое любил, например), на сцене это всё равно можно показать сотней разных способов.
К тому же, реальность сцены всегда условна — просто потому, что есть зрители. А если есть условность, значит, есть и какие-то правила игры. И нужен человек, который их определит.
Монтаж
…есть не только в кино, но и в театре. Время ведь тоже, как правило, условно и реальным трём-четырём часам, что мы проводим в зале, не соответствует.
К тому же — и это нам тоже знакомо по кино — способ монтажа в целом очень влияет на то, какие в итоге смыслы считывает зритель. Резко сменяются сцены или плавно? Похожи ли они по уровню экспрессии, атмосфере или, наоборот, противоположны? Всё это работает и в театр.
Так появляется необходимость в человеке, который смоделирует спектакль как целое.
А почему актёры сами не могут придумать?
Теоретически могут, но это трудно: нужно одновременно вести свою линию в спектакле и держать в голове некий общий план происходящего на сцене. Особенно сложно, если режиссёр определяет для себя большую роль: важно не заглушить ненароком всех остальных участников действия. Если это, конечно, не концепция.
Впрочем, это скорее общая тенденция — конечно, есть примеры очень интересных спектаклей, где на сцену выходит и режиссёр в том числе.
Как это понимать
Попробуйте посмотреть на спектакль как будто бы сверху. Обратите внимание и на то, как воспринимается при просмотре время. Если смотреть легко (при том, что тема, например, совсем не весёлая), значит, с монтажом и сценическим ритмом у режиссёра всё в порядке.
Что было сделано с материалом, насколько верны создатели спектакля букве первоисточника или текст вообще не узнать? Насколько предложенное режиссёром виденье самостоятельно и интересно? Это самодостаточный мир, о котором можно долго размышлять или это вообще не мир?
И всё-таки посмотрите на актёров. В целом…
Некоторые режиссёры конкретно парятся и буквально обращают артистов в свою веру, проводя тренинги — безумные и не очень. Известен этим, например, Анатолий Васильев. При таком раскладе вы явно заметите, что все артисты на сцене существуют по каким-то похожим законам, их что-то объединяет. Да и в менее радикальных случаях результаты партнёрства всё равно будут заметны.
Насколько актёры слышат друг друга? Объединяет ли их только система персонажей или они и играют как-то по-особенному?
… и конкретно
Обратите внимание и на главных персонажей. Дать задачу и направить исполнителя ведущей роли — одна из прямых обязанностей режиссёра. Тем более, что в спектаклях типа «Гамлета» трактовка образа главного героя — половина концепции и смысловой нагрузки (как правило). А уж смыслы и трактовки именно режиссёр почти всегда и берёт на себя.
Кстати, лайфхак для любопытных: можно ещё посмотреть на одного актёра в спектаклях разных режиссёров. Наверняка вы обратите внимание на странную закономерность: у режиссёра А этот актёр невероятно интересен и почти гениален, при этом у режиссёров B, C, и D его и не видно. В ком же дело — в актёре? Вовсе нет — в режиссёре!
Где увидеть классическую постановку
Театр начался не вчера
Сама формулировка подразумевает некую правильную интерпретацию пьесы. Но как взять и «правильно» интерпретировать «Гамлета», например?
Шекспир писал для совсем другого театра. Иначе была устроена сцена, иной была роль зрителя. В самой пьесе изначально не было даже деления на акты — и тоже отнюдь не по рассеянности автора. Конечно, Шекспира дописывали и переписывали все, кому не лень, но сути это не меняет: мы имеем дело с текстами, которые выросли из эстетики, которая нам и не привычна, и не близка.
Но пьесы его всё-таки идут и идут. Устаревают детали, устаревают подробности быта. А смыслы и образы — нет. Именно поэтому театр самых разных эпох искал способы разговора с Шекспиром и был абсолютно прав, по-своему меняя его.
И так абсолютно со всеми авторами вплоть до середины ХХ века.
Советский стереотип
А при чём тут ХХ век? Всё просто: «классическая» постановка — на самом деле, значит «советская».
Ведь что обычно подразумевается: реалистичная актёрская игра, декорации, которые изображают какое-то конкретное место, действие движется из пункта «А» в пункт «Б». Всё понятно, всё про людей. А ещё на месте весь или почти весь текст пьесы.
Реализм как одна из концепций творческого мировоззрения — куда сложнее и интереснее. То, что мы описали абзацем выше — портрет реализма дурно понятого, реализма советского — ориентировочно, после 1930-х гг. И, кстати, Станиславский здесь ни при чём.
Спектакли раннего МХТ сложнее и богаче того, что предлагает этот шаблон.
И вот снова незадача: ведь советские режиссёры (и гениальные, и посредственные) не были первыми постановщиками ни Островского, ни Чехова. Уместно ли считать их интерпретации единственно верными?
Театр — не равно литература
Ещё одна проблема — сохранность текста в спектакле.
Её, стопроцентной, в природе практически не бывает. Почему?
Потому что пьеса — литература. А спектакль — больше, чем голая иллюстрация. Режиссёр (по идее) должен вступать с литературой в диалог, интерпретировать, развивать, исследовать. И да, иногда автор спектакля понимает, что нужно одеть героев как-то иначе. Или поменять их местами. Или сделать место действия условным. Или…
Собственно, здесь и начинается театр.
Сама формулировка подразумевает некую правильную интерпретацию пьесы. Но как взять и «правильно» интерпретировать «Гамлета», например?
Шекспир писал для совсем другого театра. Иначе была устроена сцена, иной была роль зрителя. В самой пьесе изначально не было даже деления на акты — и тоже отнюдь не по рассеянности автора. Конечно, Шекспира дописывали и переписывали все, кому не лень, но сути это не меняет: мы имеем дело с текстами, которые выросли из эстетики, которая нам и не привычна, и не близка.
Но пьесы его всё-таки идут и идут. Устаревают детали, устаревают подробности быта. А смыслы и образы — нет. Именно поэтому театр самых разных эпох искал способы разговора с Шекспиром и был абсолютно прав, по-своему меняя его.
И так абсолютно со всеми авторами вплоть до середины ХХ века.
Советский стереотип
А при чём тут ХХ век? Всё просто: «классическая» постановка — на самом деле, значит «советская».
Ведь что обычно подразумевается: реалистичная актёрская игра, декорации, которые изображают какое-то конкретное место, действие движется из пункта «А» в пункт «Б». Всё понятно, всё про людей. А ещё на месте весь или почти весь текст пьесы.
Реализм как одна из концепций творческого мировоззрения — куда сложнее и интереснее. То, что мы описали абзацем выше — портрет реализма дурно понятого, реализма советского — ориентировочно, после 1930-х гг. И, кстати, Станиславский здесь ни при чём.
Спектакли раннего МХТ сложнее и богаче того, что предлагает этот шаблон.
И вот снова незадача: ведь советские режиссёры (и гениальные, и посредственные) не были первыми постановщиками ни Островского, ни Чехова. Уместно ли считать их интерпретации единственно верными?
Театр — не равно литература
Ещё одна проблема — сохранность текста в спектакле.
Её, стопроцентной, в природе практически не бывает. Почему?
Потому что пьеса — литература. А спектакль — больше, чем голая иллюстрация. Режиссёр (по идее) должен вступать с литературой в диалог, интерпретировать, развивать, исследовать. И да, иногда автор спектакля понимает, что нужно одеть героев как-то иначе. Или поменять их местами. Или сделать место действия условным. Или…
Собственно, здесь и начинается театр.
Жанр
Трагедия — это когда в конце все умерли? А комедия — когда всем весело и happy end?
Выясняем, почему Ромео — трагический герой, а Фигаро — не такой уж и весельчак.
Выясняем, почему Ромео — трагический герой, а Фигаро — не такой уж и весельчак.
«Жанр — это угол зрения на предмет»
С точки зрения теории, театр начинается там, где завязывается драматическое противоречие.
Противоречие = противоборство. Людей, объединений, мировоззрений, над-человеческих сил. Последний вариант, кстати, особенно популярен: мы видим в пьесе (или в спектакле) столкновения конкретных персонажей, а на самом деле от их лица выступает нечто большее.
Драматизм = неразрешимая ситуация. Такая есть во всех (хороших) пьесах, и везде её нельзя устранить.
Не верите? Сейчас докажем.
Бедный Йорик Гамлет
Гамлет мучается пять актов и не хочет убивать Клавдия. То есть, хочет, но не может. То есть, и может, и хочет, но почему-то не убивает. Хотя уже пришёл призрак папы Гамлета и сказал: «ну всё, сынок, давай, братец мой зажился».
А проблема, в двух словах, вот в чём.
Папа Гамлета, прежде чем стать королём, убил прошлого короля, Фортинбраса. Потом Гамлета-старшего убил собственный брат, Клавдий. По весёлому датскому обычаю, дальше Клавдия должен убить Гамлет (младший, наш герой). А потом его самого кто-нибудь убьёт.
Нормально, да? У Шекспира на эту тему очень красиво: «the time is out of joint» («век вывихнут» / «порвалась дней связующая нить»).
С одной стороны — Гамлет должен отомстить за отца, с другой стороны — мстить за отца бессмысленно: убийство очередного власть предержащего только поспособствует разрушению и без того рушащегося мира.
Не то чтобы Гамлет такой уж филантроп. Помните, он же протыкает мечом Полония, когда тот за ковром спрятался, чтобы подслушать разговор нашего героя с Гертрудой. Протыкает — и «прощай, несносный прилипала». Сожалеет, конечно, но не более того. Дело не в убийстве отдельно взятом. Дело в убийстве, как способе воздействия на движение истории.
Короче, Гамлет противостоит всему миру. И в отказе от убийства Клавдия — его главное действие.
Гамлет отомстит за папу и убьёт дядю — и приложит руку к разрушению мира. Гамлет не убьёт дядю и не отомстит за папу — и всё равно «вывихнутый век» его съест. Вернее, вынудит приложить руку и потом уже «съест».
После дуэли Гамлета и Лаэрта на сцене остаются гора трупов в прямом смысле слова — и Клавдий в итоге в их числе. А что потом? А потом приходит Фортинбрас-младший с войском. Фортинбрас, который шёл мстить за своего отца, которому из Гамлетов — не принципиально. И он, в отличие от Гамлета, рефлексией не страдает.
И всё, всё будет по-старому. Неразрешимое противоречие никуда не делось.
Трагический герой
Только такой экземпляр может ввязаться в противоборство с высшими силами. Гамлет отказывается действовать по законам «вывихнутого века», хотя понимает, что всё равно невольно это сделает. А Эдип не даёт богам себя покарать, и сам выкалывает себе глаза.
Точно так же Ромео идёт на бал к Капулетти, хотя знает (он видел сон), что это «не к добру». Но всё-таки ему туда нужно, а почему — он и сам не вполне понимает.
Трагический герой знает, что ничего не добьётся, но всё равно борется. Житейская логика тут не работает.
А в драме что, не так?
В том-то и дело, что нет.
Противоречия в драме обладают не меньшей остротой, чем в трагедии. Разница только в том, что герой не противостоит целому миру и из частного, казалось бы, столкновения, не выводится глобального обобщения.
Так Катерину в «Грозе» постепенно убивают обстоятельства. Но она противостоит не им, а конкретным людям, конкретным традициям. Ноу-хау драмы в том, что тут у всех своя правота. Хорошего во взглядах Кабанихи, конечно, мало, но по сути её требования к Катерине сводятся к формальностям.
Комедия
Тут тоже противоречие и его тоже нельзя решить. Зато можно его обмануть, обыграть.
Именно этим занимается Фигаро во всех трех пьесах, которые ему посвятил Бомарше. Здесь, как и в драме, не привлекаются высшие силы и космические масштабы. Есть, например, самоуправство графа в «Женитьбе Фигаро». Что с ним можно сделать бедняге Фигаро? Да ничего.
Фигаро мог бы страдать от него и по мере сил противостоять, но он делает ход конём и пытается обмануть ситуацию. Как правило, ловко, самоуверенно и смешно. Собственно, немыслимые затеи нас и смешат.
Обман удаётся, хотя граф остаётся деспотом — просто Фигаро приводит его к благодушному настроению. Happy end ли?
Мелодрама — это про любовь?
Да, но не только. Мелодрама — про чувства и человеческие отношения в целом.
Маленький человек, который любит своих детей, но ломает им жизнь, но любит, но всё равно ломает жизнь и очень от этого страдает — модель мелодрамы в чистом виде.
Тонкий момент вот в чём: часто за лирикой и чувствами стоят вещи более масштабные. Например, пьеса «Двое на качелях» — всё-таки не мелодрама. Конечно, встречи-расставания, но за ними — становление личности, поиск себя и взросление.
Значительную часть спектаклей, которые идут сегодня, можно и нужно назвать драмами. Трагедия (в чистом виде) в условиях современного мировоззрения невозможна, а к комедии (тоже в чистом виде) это же мировоззрение просто не располагает.
Большинство современных жанров — смешанные. Возможна, например, трагикомедия: комические попытки обмануть обстоятельства монтируются с трагическими масштабами проблемы.
Сегодня обозначить жанр — значит в паре слов описать «угол взгляда на предмет». Впрочем, у того, что кажется новоязом на самом деле имеет глубокие исторические корни.
Выясняем, почему Ромео — трагический герой, а Фигаро — не такой уж и весельчак.
Выясняем, почему Ромео — трагический герой, а Фигаро — не такой уж и весельчак.
«Жанр — это угол зрения на предмет»
С точки зрения теории, театр начинается там, где завязывается драматическое противоречие.
Противоречие = противоборство. Людей, объединений, мировоззрений, над-человеческих сил. Последний вариант, кстати, особенно популярен: мы видим в пьесе (или в спектакле) столкновения конкретных персонажей, а на самом деле от их лица выступает нечто большее.
Драматизм = неразрешимая ситуация. Такая есть во всех (хороших) пьесах, и везде её нельзя устранить.
Не верите? Сейчас докажем.
Бедный Йорик Гамлет
Гамлет мучается пять актов и не хочет убивать Клавдия. То есть, хочет, но не может. То есть, и может, и хочет, но почему-то не убивает. Хотя уже пришёл призрак папы Гамлета и сказал: «ну всё, сынок, давай, братец мой зажился».
А проблема, в двух словах, вот в чём.
Папа Гамлета, прежде чем стать королём, убил прошлого короля, Фортинбраса. Потом Гамлета-старшего убил собственный брат, Клавдий. По весёлому датскому обычаю, дальше Клавдия должен убить Гамлет (младший, наш герой). А потом его самого кто-нибудь убьёт.
Нормально, да? У Шекспира на эту тему очень красиво: «the time is out of joint» («век вывихнут» / «порвалась дней связующая нить»).
С одной стороны — Гамлет должен отомстить за отца, с другой стороны — мстить за отца бессмысленно: убийство очередного власть предержащего только поспособствует разрушению и без того рушащегося мира.
Не то чтобы Гамлет такой уж филантроп. Помните, он же протыкает мечом Полония, когда тот за ковром спрятался, чтобы подслушать разговор нашего героя с Гертрудой. Протыкает — и «прощай, несносный прилипала». Сожалеет, конечно, но не более того. Дело не в убийстве отдельно взятом. Дело в убийстве, как способе воздействия на движение истории.
Короче, Гамлет противостоит всему миру. И в отказе от убийства Клавдия — его главное действие.
Гамлет отомстит за папу и убьёт дядю — и приложит руку к разрушению мира. Гамлет не убьёт дядю и не отомстит за папу — и всё равно «вывихнутый век» его съест. Вернее, вынудит приложить руку и потом уже «съест».
После дуэли Гамлета и Лаэрта на сцене остаются гора трупов в прямом смысле слова — и Клавдий в итоге в их числе. А что потом? А потом приходит Фортинбрас-младший с войском. Фортинбрас, который шёл мстить за своего отца, которому из Гамлетов — не принципиально. И он, в отличие от Гамлета, рефлексией не страдает.
И всё, всё будет по-старому. Неразрешимое противоречие никуда не делось.
Трагический герой
Только такой экземпляр может ввязаться в противоборство с высшими силами. Гамлет отказывается действовать по законам «вывихнутого века», хотя понимает, что всё равно невольно это сделает. А Эдип не даёт богам себя покарать, и сам выкалывает себе глаза.
Точно так же Ромео идёт на бал к Капулетти, хотя знает (он видел сон), что это «не к добру». Но всё-таки ему туда нужно, а почему — он и сам не вполне понимает.
Трагический герой знает, что ничего не добьётся, но всё равно борется. Житейская логика тут не работает.
А в драме что, не так?
В том-то и дело, что нет.
Противоречия в драме обладают не меньшей остротой, чем в трагедии. Разница только в том, что герой не противостоит целому миру и из частного, казалось бы, столкновения, не выводится глобального обобщения.
Так Катерину в «Грозе» постепенно убивают обстоятельства. Но она противостоит не им, а конкретным людям, конкретным традициям. Ноу-хау драмы в том, что тут у всех своя правота. Хорошего во взглядах Кабанихи, конечно, мало, но по сути её требования к Катерине сводятся к формальностям.
Комедия
Тут тоже противоречие и его тоже нельзя решить. Зато можно его обмануть, обыграть.
Именно этим занимается Фигаро во всех трех пьесах, которые ему посвятил Бомарше. Здесь, как и в драме, не привлекаются высшие силы и космические масштабы. Есть, например, самоуправство графа в «Женитьбе Фигаро». Что с ним можно сделать бедняге Фигаро? Да ничего.
Фигаро мог бы страдать от него и по мере сил противостоять, но он делает ход конём и пытается обмануть ситуацию. Как правило, ловко, самоуверенно и смешно. Собственно, немыслимые затеи нас и смешат.
Обман удаётся, хотя граф остаётся деспотом — просто Фигаро приводит его к благодушному настроению. Happy end ли?
Мелодрама — это про любовь?
Да, но не только. Мелодрама — про чувства и человеческие отношения в целом.
Маленький человек, который любит своих детей, но ломает им жизнь, но любит, но всё равно ломает жизнь и очень от этого страдает — модель мелодрамы в чистом виде.
Тонкий момент вот в чём: часто за лирикой и чувствами стоят вещи более масштабные. Например, пьеса «Двое на качелях» — всё-таки не мелодрама. Конечно, встречи-расставания, но за ними — становление личности, поиск себя и взросление.
Значительную часть спектаклей, которые идут сегодня, можно и нужно назвать драмами. Трагедия (в чистом виде) в условиях современного мировоззрения невозможна, а к комедии (тоже в чистом виде) это же мировоззрение просто не располагает.
Большинство современных жанров — смешанные. Возможна, например, трагикомедия: комические попытки обмануть обстоятельства монтируются с трагическими масштабами проблемы.
Сегодня обозначить жанр — значит в паре слов описать «угол взгляда на предмет». Впрочем, у того, что кажется новоязом на самом деле имеет глубокие исторические корни.
Что такое сценография
Место действия? Да.
Декорации? Тоже «да».
Но нам больше нравится вариант позаумней: способ оформления пространства и взаимодействия с ним.
В любом спектакле события происходят где-то. Это может быть конкретное место, а может быть условное. Иногда оно воссоздаётся на сцене буквально, иногда не воссоздаётся в принципе.
В современном театре действующие лица часто оказывают в пространстве, которому и имя-то дать трудно. Просто чёрная (или белая) комната, просто странная конструкция в несколько этажей, просто предметы, раскиданные по сцене — например. Часто поиск ответа на вопрос: «что это вообще такое?» — полдела в смысле понимания спектакля в целом. И не потому, что сценограф захотел поумствовать.
Тогда почему же?
Пространство — один из главных «языков», на которых говорит театр. Рядом с пространством — язык человеческого тела, звук и течение времени. Люди, изучающие историю сценографии, и вовсе скажут вам, что театр начинается с пространства и никак иначе — хотя об этом можно и подискутировать.
В некоем каноническом варианте режиссёр берёт литературный материал и, отталкиваясь от него, осмысляя его, создаёт новое произведение на сцене. И как режиссёр ищет способы отображения своих идей в актёрской игре, в композиции, в ритме и атмосфере — так и художник создаёт авторское пространство, в котором заложена образная интерпретация происходящего.
Сценография менялась и развивалась, начиная с первых дней театра. По тому, как оформлялось пространство часто можно понять многое и о театральной эпохе в целом.
Декорации? Тоже «да».
Но нам больше нравится вариант позаумней: способ оформления пространства и взаимодействия с ним.
В любом спектакле события происходят где-то. Это может быть конкретное место, а может быть условное. Иногда оно воссоздаётся на сцене буквально, иногда не воссоздаётся в принципе.
В современном театре действующие лица часто оказывают в пространстве, которому и имя-то дать трудно. Просто чёрная (или белая) комната, просто странная конструкция в несколько этажей, просто предметы, раскиданные по сцене — например. Часто поиск ответа на вопрос: «что это вообще такое?» — полдела в смысле понимания спектакля в целом. И не потому, что сценограф захотел поумствовать.
Тогда почему же?
Пространство — один из главных «языков», на которых говорит театр. Рядом с пространством — язык человеческого тела, звук и течение времени. Люди, изучающие историю сценографии, и вовсе скажут вам, что театр начинается с пространства и никак иначе — хотя об этом можно и подискутировать.
В некоем каноническом варианте режиссёр берёт литературный материал и, отталкиваясь от него, осмысляя его, создаёт новое произведение на сцене. И как режиссёр ищет способы отображения своих идей в актёрской игре, в композиции, в ритме и атмосфере — так и художник создаёт авторское пространство, в котором заложена образная интерпретация происходящего.
Сценография менялась и развивалась, начиная с первых дней театра. По тому, как оформлялось пространство часто можно понять многое и о театральной эпохе в целом.
Что такое перформанс
Перформанс ничего не создаёт. Его главная задача — смоделировать ситуацию. Чтобы зритель, вернее, участник, оказался вынужден совершить выбор — как правило, непростой.
Первый перформанс в истории, «Уста святого Фомы» — это два часа, на протяжении которых художница Марина Абрамович на глазах у зрителей последовательно истязала своё тело. От сравнительно безвредного поедания килограммовой банки мёда — до вырезания звезды Давида на животе и нанесения ран плетью. В итоге Абрамович легла на ледяные блоки и замерла так на полчаса — пока кто-то из зрителей не вмешался и не прекратил мучения художницы. Дело было 24 октября 1975 г.
В чём смысл? Как раз во вмешательстве. Всё происходило на самом деле, хотя Абрамович намеренно не давала понять, что испытывает боль.
Это был способ задать вопрос, насколько долго человек способен молча наблюдать за абсолютно реальным, осязаемым насилием, происходящим у него перед глазами.
Далеко не всегда перформанс прибегает к столь радикальным средствам. Но сама ситуация неизменно острая: важно заставить участника ощутить свою причастность к происходящему.
Часто элементы перформанса включаются в «обычные» спектакли. Таков, например, был финал постановки Мило Рау «Репетиция. История(и) театра (I)», где как раз звучала тема абсолютно бессмысленного, тупого насилия.
В качестве эпилога рассказывалась история об актёре, у которого был коронный номер: сообщить зрителям о намерении покончить с собой, встать на табуретку, надеть на шею петлю, а потом… А что потом мы не узнаём, потому что на словах о петле и «потом» актёр «Репетиции…» уже сам стоит на стуле в секунде от самоубийства.
Конечно, с исполнителем у Мило Рау в любом случае ничего бы не произошло. Но в один из показов на петербургских гастролях зритель всё-таки выбежал на сцену и спас актёра. И если катарсис существует — это был он.
Смысл перформанса — в высказывании. В конкретном случае — о том, что можно и нужно вмешиваться, можно и нужно спасти. Или хотя бы попытаться.
Первый перформанс в истории, «Уста святого Фомы» — это два часа, на протяжении которых художница Марина Абрамович на глазах у зрителей последовательно истязала своё тело. От сравнительно безвредного поедания килограммовой банки мёда — до вырезания звезды Давида на животе и нанесения ран плетью. В итоге Абрамович легла на ледяные блоки и замерла так на полчаса — пока кто-то из зрителей не вмешался и не прекратил мучения художницы. Дело было 24 октября 1975 г.
В чём смысл? Как раз во вмешательстве. Всё происходило на самом деле, хотя Абрамович намеренно не давала понять, что испытывает боль.
Это был способ задать вопрос, насколько долго человек способен молча наблюдать за абсолютно реальным, осязаемым насилием, происходящим у него перед глазами.
Далеко не всегда перформанс прибегает к столь радикальным средствам. Но сама ситуация неизменно острая: важно заставить участника ощутить свою причастность к происходящему.
Часто элементы перформанса включаются в «обычные» спектакли. Таков, например, был финал постановки Мило Рау «Репетиция. История(и) театра (I)», где как раз звучала тема абсолютно бессмысленного, тупого насилия.
В качестве эпилога рассказывалась история об актёре, у которого был коронный номер: сообщить зрителям о намерении покончить с собой, встать на табуретку, надеть на шею петлю, а потом… А что потом мы не узнаём, потому что на словах о петле и «потом» актёр «Репетиции…» уже сам стоит на стуле в секунде от самоубийства.
Конечно, с исполнителем у Мило Рау в любом случае ничего бы не произошло. Но в один из показов на петербургских гастролях зритель всё-таки выбежал на сцену и спас актёра. И если катарсис существует — это был он.
Смысл перформанса — в высказывании. В конкретном случае — о том, что можно и нужно вмешиваться, можно и нужно спасти. Или хотя бы попытаться.
Трагический герой
Вы часто слышите слова «трагедия» и «трагический герой»? Применительно к современному театру. Мы вот, например, очень часто.
С одной стороны, в чём проблема? Такое понятное ёмкое слово: трагический. Имеется в виду человек, столкнувшийся с неразрешимыми обстоятельствами. Ну, знаете, прямо с большой буквы — Неразрешимыми. Не просто беда у него, а прямо Беда. Гор трупов может и не быть, но чувство безысходности — полнейшее.
С другой стороны, это конечно, полный сюр. Потому что на самом деле ни трагедии, ни трагического героя в 21 веке быть уже не может. Но почему нам тогда не дают покоя все эти красивые древние слова?
Немного теории
Что вообще такое трагедия?
В быту — катастрофа, несчастье. Что-то очень-очень страшное. А в театре это определённый, очень древний жанр.
Так, а с героем что?
Тут сложнее. В общем и целом, герой — субъект действия. У него работа такая: что-то делать — в глобальном смысле, конечно. Просто так жить он не умеет.
Как всегда начнём с греков
Как вы помните, у нас есть любимый пример на все случаи жизни — царь Эдип.
Итак, в чём проблема Эдипа? Сам того не зная, он убил отца и женился на матери. А потом с горя ещё и ослепил сам себя.
Шутим, конечно. Так события пьесы Софокла можно было бы описать, будь она бытовой драмой. Но тут всё совершенно иначе. Во-первых, о том, что сын Лаия (это как раз отец Эдипа) убьёт отца, было известно ещё до рождения последнего. Во-вторых, и самого Эдипа пророк предупреждал. Проблем в том, что Эдип рос у приёмных родителей — и, соответственно, знать не знал, кого надо остерегаться на самом деле.
Субъект или объект?
Короче, противоречие (проблема) неразрешимое абсолютно. Человек стал жертвой пророчества. Какой же он тогда субъект действия?!
НО. Давайте вспомним, что в картине мира греков довольно долго ответственность за поступки человека несли боги. Они и путь указывали, они и кару назначали.
А что делает Эдип? Узнав о совершённом, он никакой кары не ждёт. Эдипу вообще всё равно, что там эти боги: лично он, он сам не хотел убивать отца, будь хоть все пророчества мира против. Поэтому, совершив страшное открытие, герой принимает решение покарать себя сам — тут и происходит ослепление.
Трагическая вертикаль
Эдип — абсолютно точно субъект действия, то есть, герой. Причём именно трагический.
Так называемая трагическая вертикаль: человек вступает в противоборство с какими-то высшими силами. Это могут быть боги, а может быть судьба или, наконец, сама человеческая природа, определённая кем-то свыше (так будет у Просветителей).
Эдип всю жизнь положил на то, чтобы не стать частью божественного проекта — человек, который воспринимает себя как раба высших сил, обратите внимание, делать так точно не будет. Но ничего не получается, и тогда он решает, что хотя бы наказать себя должен сам. Потому что это его личное преступление, и он несёт за содеянное ответственность.
Но со временем мнение человека о собственных силах и способности на что-то воздействовать в мире сильно изменилось. Да и высшие силы последние лет 200 мы представляем себе совершенно не так, как древние.
Образ Нового времени — человек, который не может ничего изменить. Давайте, например, вспомним Отелло. Там же вовсе не в ревности дело: герой любит Дездемону на самом деле и убивает её, потому что она слишком прекрасна для этого чудовищного мира, где даже самая чистая любовь сталкивается грязью навета и клеветы.
Отелло
Эдип прекрасен, он там и загадки Сфинска разгадывает, и Фивы спасает. А Отелло, конечно, фигура сильная, но отношение к нему неоднозначно. Его конфликт с высшими силами опосредован, он не пытается, как Эдип, специально чего-то не совершить. Герой Шекспира слабее и несчастнее.
Последними трагиками, если вдуматься, были упомянутые Просветители. Но там-то речь была о борьбе духа и бренных страстей. Вот только Просветительский проект — вера в разум, в силу человека — закончился Французскую революцией: весь идеализм буквально потонул в крови.
«Бог умер»
Знаменитая фраза Ницше в конце XIX века, по сути, стала формулировкой причины смерти трагедии. Имелось в виду, что Бог перестал «слышать» человека. И нет никакого проекта судьбы, уготованного свыше. Так что бороться, в общем-то, не с чем — хотя ни одной проблемы это не решает, наоборот.
Так чеховский дядя Ваня предпримет попытку сделать так, чтобы его имение оставили в покое — дело жизни его и Сони. Но сил идти до конца и добиваться чего от Серебрякова у него. Да и не в Серебрякове ведь дело: проблема в самом устройстве жизни, в чудовищной закономерности, согласно которой любовь всегда невзаимна, а счастье невозможно.
Дядя Ваня сознательно отказывается от попыток борьбы: ему кажется, что это совершенно бессмысленно. С точки зрения теории драмы отказ — это тоже форма действия. Вот только никакой вертикали тут уже нет.
Постмодернизм и субъект / объект
В конце ХХ века произошла ещё одна революция. Герой в классическом понимание обречён на непрерывное, как правило последовательное действие. В современном же искусстве фигура героя дискредитирована: человек чувствует, что между ним и миром нет вообще никаких двусторонних отношений, что время дробится и рассыпается, что реальность меняет лица — и это нужно художественно осмыслить. Какая уж тут трагическая вертикаль?
Трагедия сегодня
В чистом виде она, конечно, невозможна — нет таких героев, которые от и до проходят путь борьбы с некими высшими силами. Но элементы трагического всё равно обнаруживаются нередко.
Например, в нашем спектакле «LЁD» три героя Дмитрия Поднозова каждый по-своему пытаются вырваться из сковывающих их обстоятельств. Ситуации сменяют друг друга как кадры в киноленте, и хотя связь между ними — чисто ассоциативное, трагизма это не отменяет.
С одной стороны, в чём проблема? Такое понятное ёмкое слово: трагический. Имеется в виду человек, столкнувшийся с неразрешимыми обстоятельствами. Ну, знаете, прямо с большой буквы — Неразрешимыми. Не просто беда у него, а прямо Беда. Гор трупов может и не быть, но чувство безысходности — полнейшее.
С другой стороны, это конечно, полный сюр. Потому что на самом деле ни трагедии, ни трагического героя в 21 веке быть уже не может. Но почему нам тогда не дают покоя все эти красивые древние слова?
Немного теории
Что вообще такое трагедия?
В быту — катастрофа, несчастье. Что-то очень-очень страшное. А в театре это определённый, очень древний жанр.
Так, а с героем что?
Тут сложнее. В общем и целом, герой — субъект действия. У него работа такая: что-то делать — в глобальном смысле, конечно. Просто так жить он не умеет.
Как всегда начнём с греков
Как вы помните, у нас есть любимый пример на все случаи жизни — царь Эдип.
Итак, в чём проблема Эдипа? Сам того не зная, он убил отца и женился на матери. А потом с горя ещё и ослепил сам себя.
Шутим, конечно. Так события пьесы Софокла можно было бы описать, будь она бытовой драмой. Но тут всё совершенно иначе. Во-первых, о том, что сын Лаия (это как раз отец Эдипа) убьёт отца, было известно ещё до рождения последнего. Во-вторых, и самого Эдипа пророк предупреждал. Проблем в том, что Эдип рос у приёмных родителей — и, соответственно, знать не знал, кого надо остерегаться на самом деле.
Субъект или объект?
Короче, противоречие (проблема) неразрешимое абсолютно. Человек стал жертвой пророчества. Какой же он тогда субъект действия?!
НО. Давайте вспомним, что в картине мира греков довольно долго ответственность за поступки человека несли боги. Они и путь указывали, они и кару назначали.
А что делает Эдип? Узнав о совершённом, он никакой кары не ждёт. Эдипу вообще всё равно, что там эти боги: лично он, он сам не хотел убивать отца, будь хоть все пророчества мира против. Поэтому, совершив страшное открытие, герой принимает решение покарать себя сам — тут и происходит ослепление.
Трагическая вертикаль
Эдип — абсолютно точно субъект действия, то есть, герой. Причём именно трагический.
Так называемая трагическая вертикаль: человек вступает в противоборство с какими-то высшими силами. Это могут быть боги, а может быть судьба или, наконец, сама человеческая природа, определённая кем-то свыше (так будет у Просветителей).
Эдип всю жизнь положил на то, чтобы не стать частью божественного проекта — человек, который воспринимает себя как раба высших сил, обратите внимание, делать так точно не будет. Но ничего не получается, и тогда он решает, что хотя бы наказать себя должен сам. Потому что это его личное преступление, и он несёт за содеянное ответственность.
Но со временем мнение человека о собственных силах и способности на что-то воздействовать в мире сильно изменилось. Да и высшие силы последние лет 200 мы представляем себе совершенно не так, как древние.
Образ Нового времени — человек, который не может ничего изменить. Давайте, например, вспомним Отелло. Там же вовсе не в ревности дело: герой любит Дездемону на самом деле и убивает её, потому что она слишком прекрасна для этого чудовищного мира, где даже самая чистая любовь сталкивается грязью навета и клеветы.
Отелло
Эдип прекрасен, он там и загадки Сфинска разгадывает, и Фивы спасает. А Отелло, конечно, фигура сильная, но отношение к нему неоднозначно. Его конфликт с высшими силами опосредован, он не пытается, как Эдип, специально чего-то не совершить. Герой Шекспира слабее и несчастнее.
Последними трагиками, если вдуматься, были упомянутые Просветители. Но там-то речь была о борьбе духа и бренных страстей. Вот только Просветительский проект — вера в разум, в силу человека — закончился Французскую революцией: весь идеализм буквально потонул в крови.
«Бог умер»
Знаменитая фраза Ницше в конце XIX века, по сути, стала формулировкой причины смерти трагедии. Имелось в виду, что Бог перестал «слышать» человека. И нет никакого проекта судьбы, уготованного свыше. Так что бороться, в общем-то, не с чем — хотя ни одной проблемы это не решает, наоборот.
Так чеховский дядя Ваня предпримет попытку сделать так, чтобы его имение оставили в покое — дело жизни его и Сони. Но сил идти до конца и добиваться чего от Серебрякова у него. Да и не в Серебрякове ведь дело: проблема в самом устройстве жизни, в чудовищной закономерности, согласно которой любовь всегда невзаимна, а счастье невозможно.
Дядя Ваня сознательно отказывается от попыток борьбы: ему кажется, что это совершенно бессмысленно. С точки зрения теории драмы отказ — это тоже форма действия. Вот только никакой вертикали тут уже нет.
Постмодернизм и субъект / объект
В конце ХХ века произошла ещё одна революция. Герой в классическом понимание обречён на непрерывное, как правило последовательное действие. В современном же искусстве фигура героя дискредитирована: человек чувствует, что между ним и миром нет вообще никаких двусторонних отношений, что время дробится и рассыпается, что реальность меняет лица — и это нужно художественно осмыслить. Какая уж тут трагическая вертикаль?
Трагедия сегодня
В чистом виде она, конечно, невозможна — нет таких героев, которые от и до проходят путь борьбы с некими высшими силами. Но элементы трагического всё равно обнаруживаются нередко.
Например, в нашем спектакле «LЁD» три героя Дмитрия Поднозова каждый по-своему пытаются вырваться из сковывающих их обстоятельств. Ситуации сменяют друг друга как кадры в киноленте, и хотя связь между ними — чисто ассоциативное, трагизма это не отменяет.

Что это было?
Шесть советов на случай болезненного столкновения с современной режиссурой.

Жанр. XXI Век
Философский термин, строчка из Бродского или просто красивое слово — и что этим хотел сказать режиссёр?!
Что это было?
Представьте ситуацию: идёт известный спектакль известного режиссёра, который вам сто раз советовали. Вы купили билет, пришли, ждёте обещанного потрясения. И ничего. Актёры фланируют по площадке с глубокомысленным видом, дикими голосами произносят странные слова, дым-машины пыхтят, декорации катаются туда-сюда, музыка какая-то играет — а к чему это всё — непонятно.
А все вокруг довольны, хлопают. А потом этому ещё и «Золотую маску» присуждают.
И кто прав?
Пробуем разобраться, как быть в такой ситуации
Без паники
Современный театр в целом не стремится быть понятным и что-то объяснять. В каком-то смысле так было всегда — сто лет назад не понимали Мейерхольда, сегодня не понимают Люпу.
И это нормально: чтобы быть в курсе тонкостей эволюции театральной мысли, нужно смотреть по сотне спектаклей в год — не каждому такое по душе.
Кто на самом деле ставил гениальные спектакли, а кто просто талантливо вёл дело покажет время. И всё-таки есть несколько способов дать спектаклю шанс и выяснить, стоило ли увиденное попыток понимания.
Критики
С ними можно соглашаться, а можно и не соглашаться, но почитать интересно почти всегда. Как никак это люди, которые точно смотрят 100+ спектаклей за сезон и знают что-то не только про «сегодня» театра, но и про его вчера и позавчера.
Лично мы советуем заглянуть в «Петербургский театральный журнал». Что бы вы ни посмотрели, там наверняка про это кто-то уже написал.
Ещё на «Соltа». Гораздо меньше рецензий, но качество ничуть не хуже. А если дело происходит в Москве — то однозначно поможет журнал «Театр».
Ваше собственное ощущение
Было скучно или неприятно? Тогда, возможно, и правда со спектаклем что-то не то
— или он совсем «не ваш».
Точно не противно, но как-то тяжело? Тут два варианта: либо происходящее давит эмоционально, и это вопрос индивидуальный, либо вам пока непонятен такой художественный язык.
Было в целом интересно и даже радостно местами, но всё как будто бы пошло не туда, и чувство остались противоречивые? А вот тут точно стоит дать спектаклю шанс.
Другие спектакли
Либо вы окончательно разочаруетесь в режиссёре (и поймете, почему), либо наоборот начнёте лучше его понимать и проникнетесь.
Так часто бывает: спектакль становится понятен только на второй просмотр год спустя — более того, становится открытием, шоком, катарсисом и так далее.
Источник
Если вы идёте на экспериментальную постановку Чехова или Шекспира, но не очень помните конкретную пьесу — лучше, конечно, вспомнить хотя бы примерно.
Все (хорошие) авангардные постановки так или иначе исходят из необходимости открыть в материале подлинный смысл, а не дотошно изобразить, что там случилось. Наверное, довольно смотреть наш «Мрамор», решительно ничего не зная про эту пьесу Бродского.
Иногда, кстати, так благодаря театру узнаешь много нового о современной литературе. Мы, например, через спектакль Евгении Сафоновой узнали о Зебальде и его романе «Аустерлиц», а через постановку Юрия Бутусова — о трилогии Зеллера «Сыне», в частности.
Режиссёр
Не все режиссёры умеют и любят объяснять словами свои театральные поиски, но любое содержательное интервью поможет как минимум побольше узнать о мировосприятии конкретного автора. А это часто даёт отправную точку для собственных размышлений.
Профессиональная оценка
Если честно, «Золотую маску» всё-таки редко дают за ерунду. Но если её всё-таки дали тому спектаклю, который вам решительно не понравился, стоит обратить внимание ещё и на номинацию. Может, там действительно была крышесносная сценография. Или актриса третьего плана, или музыка.
Если в случае с кино сочетание пальмовой ветви и Оскара на обложке однозначно агитирует к просмотру, то здесь таких конкретных названий нет. Но всё-таки если у спектакля и «Прорыв», и «Маска», и «Золотой софит» и... — пожалуй, это о чём-то говорит.
А все вокруг довольны, хлопают. А потом этому ещё и «Золотую маску» присуждают.
И кто прав?
Пробуем разобраться, как быть в такой ситуации
Без паники
Современный театр в целом не стремится быть понятным и что-то объяснять. В каком-то смысле так было всегда — сто лет назад не понимали Мейерхольда, сегодня не понимают Люпу.
И это нормально: чтобы быть в курсе тонкостей эволюции театральной мысли, нужно смотреть по сотне спектаклей в год — не каждому такое по душе.
Кто на самом деле ставил гениальные спектакли, а кто просто талантливо вёл дело покажет время. И всё-таки есть несколько способов дать спектаклю шанс и выяснить, стоило ли увиденное попыток понимания.
Критики
С ними можно соглашаться, а можно и не соглашаться, но почитать интересно почти всегда. Как никак это люди, которые точно смотрят 100+ спектаклей за сезон и знают что-то не только про «сегодня» театра, но и про его вчера и позавчера.
Лично мы советуем заглянуть в «Петербургский театральный журнал». Что бы вы ни посмотрели, там наверняка про это кто-то уже написал.
Ещё на «Соltа». Гораздо меньше рецензий, но качество ничуть не хуже. А если дело происходит в Москве — то однозначно поможет журнал «Театр».
Ваше собственное ощущение
Было скучно или неприятно? Тогда, возможно, и правда со спектаклем что-то не то
— или он совсем «не ваш».
Точно не противно, но как-то тяжело? Тут два варианта: либо происходящее давит эмоционально, и это вопрос индивидуальный, либо вам пока непонятен такой художественный язык.
Было в целом интересно и даже радостно местами, но всё как будто бы пошло не туда, и чувство остались противоречивые? А вот тут точно стоит дать спектаклю шанс.
Другие спектакли
Либо вы окончательно разочаруетесь в режиссёре (и поймете, почему), либо наоборот начнёте лучше его понимать и проникнетесь.
Так часто бывает: спектакль становится понятен только на второй просмотр год спустя — более того, становится открытием, шоком, катарсисом и так далее.
Источник
Если вы идёте на экспериментальную постановку Чехова или Шекспира, но не очень помните конкретную пьесу — лучше, конечно, вспомнить хотя бы примерно.
Все (хорошие) авангардные постановки так или иначе исходят из необходимости открыть в материале подлинный смысл, а не дотошно изобразить, что там случилось. Наверное, довольно смотреть наш «Мрамор», решительно ничего не зная про эту пьесу Бродского.
Иногда, кстати, так благодаря театру узнаешь много нового о современной литературе. Мы, например, через спектакль Евгении Сафоновой узнали о Зебальде и его романе «Аустерлиц», а через постановку Юрия Бутусова — о трилогии Зеллера «Сыне», в частности.
Режиссёр
Не все режиссёры умеют и любят объяснять словами свои театральные поиски, но любое содержательное интервью поможет как минимум побольше узнать о мировосприятии конкретного автора. А это часто даёт отправную точку для собственных размышлений.
Профессиональная оценка
Если честно, «Золотую маску» всё-таки редко дают за ерунду. Но если её всё-таки дали тому спектаклю, который вам решительно не понравился, стоит обратить внимание ещё и на номинацию. Может, там действительно была крышесносная сценография. Или актриса третьего плана, или музыка.
Если в случае с кино сочетание пальмовой ветви и Оскара на обложке однозначно агитирует к просмотру, то здесь таких конкретных названий нет. Но всё-таки если у спектакля и «Прорыв», и «Маска», и «Золотой софит» и... — пожалуй, это о чём-то говорит.
Жанр. XXI Век
Почему сегодня жанровое определение можно сформулировать как угодно и как понять это «как угодно».
Почему трагедия закончилась
Трагедия была возможна только при определённом мировоззрении.
Помните, у греков на каждом повороте были боги и какие-то их дела с людьми?
Боги хотели наказать Эдипа, боги заварили всё веселье в «Орестее» Эсхила. Даже в комедии — в «Лягушках» Аристофана — действует бог Дионис, который страшно беспокоится, что все великие поэты поумирали — и даже отправляется в загробный мир за Еврипидом.
Взаимодействие богов и людей — для греков норма. Такое мировоззрение: есть боги, есть я, я на земле, они — на небе, но контакт возможен.
Отсюда выражение «трагическая вертикаль». Именно эти отношения между земным героем и божественным оно и подразумевает.
Но что происходит дальше?
История идёт, наука цветёт, мир движется — и постепенно в сознании условного человека «нормы» утверждается другая идея: что нет никакой вертикали, а если она и есть — то взаимоотношения невозможны. Последнее имеет место в религиозной картине мира, например: можно и нужно посылать что-то наверх, но ждать ответного действия — не стоит и даже неуместно.
Не та ситуация, когда можно было шутки шутить с Дионисом, согласитесь.
А с драмой-то что не так?
Всё так. Драма с её межчеловеческими отношениями была, есть и будет. Строго говоря, практически всё, что мы можем посмотреть в театре сегодня — драмы.
НО. Вот мы сказали Вам название спектакля — например, «Гроза». И Вы, как зритель XXI века, почти наверняка спросите: «А как это будет выглядеть?»
Собственно, на вопрос «как?» и отвечает жанровое определение
Практически всё, что сегодня идёт в театре, можно назвать драмой, но понятнее от этого не становится.
Спектакль, где все добросовестно выучили текст, надели, прости, господи, исторические костюмы и с сим посылом вышли на три часа на сцену — драма.
Спектакль, где главный герой представлен в двух экземплярах, зал снимают на камеру, шутят страшные шутки и показывают акробатические трюки — вообще-то тоже драма.
И как быть?
Жанр + жанр = …
Классические жанры смешиваются и порождают новые. Трагедия, например, в чистом виде сегодня уже невозможна. Зато элементы трагизма — сколько угодно! Почти всегда изобретение новых слов в строке «жанр» в программке — совсем не от желания поумствовать. Но от желания собрать тенденции спектакля в ёмкое определение. Таков, к примеру, жанр «трагифарс» — ведь и он когда-то был юн и никому не понятен
Вся штука в том, что нет новых терминов.
Посмотрим, как это работает на примерах ->
Экзистенциальная драма
«Машина едет к морю»
Не то чтобы режиссёры думали, что все вокруг — фанаты Кьеркегора, Хайдеггера и прочих Ницше. Но иногда философский термин и правда очень уместен.
С драмой в жанровом определении «Машины…» всё как будто бы понятно. А экзистенциальная?.. Мудрёное слово всего лишь отображает тему.
За трудностями перевода и сложностями отношений между людьми стоит проблема выбора способа существования. Герои постепенно осознают, что сама их жизнь устроена как-то неправильно — и с этим нужно что-то делать.
Лирический хоррор
«Комната Герды»
По форме и «Комната Герды» — драма (монодрама). Но по смыслу всё сложнее.
«Лирический хоррор» — одно как будто бы противоречит другому. Но важно понимать, что «лирический» значит — «про чувства», «про внутренний мир человека». Розовые воланчики и плюшевые зайцы — это совсем из другой оперы.
В «Комнате…» лиризм душевной жизни героини сочетается со страшным, если вдуматься, смыслом ситуации, в которой она оказалась. Из противоречия этих компонентов и рождается драматизм — без которого, как мы знаем, и театра-то не бывает…
Квазифилософский водевиль
«Мрамор»
Как показать, что чинной читки по ролям не будет? Вот так, Павел Семченко показал мастер-класс.
Водевиль — жанр хитрый и совсем, на самом деле, не юный. Станиславский ещё в колыбельке спал, а водевиль уже процветал.
Водевиль = лёгкий спектакль, состоящий из трюкачески-музыкальных номеров на тему какой-нибудь безделицы. С интригой, как правило, и всякими радостями для глаз.
В «Мраморе» трюков и музыки полно, вот только здесь это всё становится и предметом иронии в том числе. И на это как раз указывает «квазифилософский» («квази-» — мнимый).
Медитация по текстам Эмили Дикинсон
«Всего две вещи»
«Медитация» — это и про состояние актёров (условно, конечно), и про то, как спектакль будет воздействовать на зрителей.
Медитация — как будто бы и не жанр вовсе. Но при помощи него создатели спектакля описывают то, с какой позиции предлагается посмотреть на Дикинсон и её поэзию. Вряд ли это будет что-то про феминизм и прочую актуалочку в духе Netflix, правда?
Почему трагедия закончилась
Трагедия была возможна только при определённом мировоззрении.
Помните, у греков на каждом повороте были боги и какие-то их дела с людьми?
Боги хотели наказать Эдипа, боги заварили всё веселье в «Орестее» Эсхила. Даже в комедии — в «Лягушках» Аристофана — действует бог Дионис, который страшно беспокоится, что все великие поэты поумирали — и даже отправляется в загробный мир за Еврипидом.
Взаимодействие богов и людей — для греков норма. Такое мировоззрение: есть боги, есть я, я на земле, они — на небе, но контакт возможен.
Отсюда выражение «трагическая вертикаль». Именно эти отношения между земным героем и божественным оно и подразумевает.
Но что происходит дальше?
История идёт, наука цветёт, мир движется — и постепенно в сознании условного человека «нормы» утверждается другая идея: что нет никакой вертикали, а если она и есть — то взаимоотношения невозможны. Последнее имеет место в религиозной картине мира, например: можно и нужно посылать что-то наверх, но ждать ответного действия — не стоит и даже неуместно.
Не та ситуация, когда можно было шутки шутить с Дионисом, согласитесь.
А с драмой-то что не так?
Всё так. Драма с её межчеловеческими отношениями была, есть и будет. Строго говоря, практически всё, что мы можем посмотреть в театре сегодня — драмы.
НО. Вот мы сказали Вам название спектакля — например, «Гроза». И Вы, как зритель XXI века, почти наверняка спросите: «А как это будет выглядеть?»
Собственно, на вопрос «как?» и отвечает жанровое определение
Практически всё, что сегодня идёт в театре, можно назвать драмой, но понятнее от этого не становится.
Спектакль, где все добросовестно выучили текст, надели, прости, господи, исторические костюмы и с сим посылом вышли на три часа на сцену — драма.
Спектакль, где главный герой представлен в двух экземплярах, зал снимают на камеру, шутят страшные шутки и показывают акробатические трюки — вообще-то тоже драма.
И как быть?
Жанр + жанр = …
Классические жанры смешиваются и порождают новые. Трагедия, например, в чистом виде сегодня уже невозможна. Зато элементы трагизма — сколько угодно! Почти всегда изобретение новых слов в строке «жанр» в программке — совсем не от желания поумствовать. Но от желания собрать тенденции спектакля в ёмкое определение. Таков, к примеру, жанр «трагифарс» — ведь и он когда-то был юн и никому не понятен
Вся штука в том, что нет новых терминов.
Посмотрим, как это работает на примерах ->
Экзистенциальная драма
«Машина едет к морю»
Не то чтобы режиссёры думали, что все вокруг — фанаты Кьеркегора, Хайдеггера и прочих Ницше. Но иногда философский термин и правда очень уместен.
С драмой в жанровом определении «Машины…» всё как будто бы понятно. А экзистенциальная?.. Мудрёное слово всего лишь отображает тему.
За трудностями перевода и сложностями отношений между людьми стоит проблема выбора способа существования. Герои постепенно осознают, что сама их жизнь устроена как-то неправильно — и с этим нужно что-то делать.
Лирический хоррор
«Комната Герды»
По форме и «Комната Герды» — драма (монодрама). Но по смыслу всё сложнее.
«Лирический хоррор» — одно как будто бы противоречит другому. Но важно понимать, что «лирический» значит — «про чувства», «про внутренний мир человека». Розовые воланчики и плюшевые зайцы — это совсем из другой оперы.
В «Комнате…» лиризм душевной жизни героини сочетается со страшным, если вдуматься, смыслом ситуации, в которой она оказалась. Из противоречия этих компонентов и рождается драматизм — без которого, как мы знаем, и театра-то не бывает…
Квазифилософский водевиль
«Мрамор»
Как показать, что чинной читки по ролям не будет? Вот так, Павел Семченко показал мастер-класс.
Водевиль — жанр хитрый и совсем, на самом деле, не юный. Станиславский ещё в колыбельке спал, а водевиль уже процветал.
Водевиль = лёгкий спектакль, состоящий из трюкачески-музыкальных номеров на тему какой-нибудь безделицы. С интригой, как правило, и всякими радостями для глаз.
В «Мраморе» трюков и музыки полно, вот только здесь это всё становится и предметом иронии в том числе. И на это как раз указывает «квазифилософский» («квази-» — мнимый).
Медитация по текстам Эмили Дикинсон
«Всего две вещи»
«Медитация» — это и про состояние актёров (условно, конечно), и про то, как спектакль будет воздействовать на зрителей.
Медитация — как будто бы и не жанр вовсе. Но при помощи него создатели спектакля описывают то, с какой позиции предлагается посмотреть на Дикинсон и её поэзию. Вряд ли это будет что-то про феминизм и прочую актуалочку в духе Netflix, правда?
Этика в театре
Можно ли уйти посреди спектакля? Или опоздать? Уместно ли относится к театру как к развлечению?
В разные времена на эти вопросы отвечали совершено по-разному
Начнём с древней Греции…
Греки были классными ребятами и к театру относились очень серьёзно. Греческий театр (читай: в принципе театр) произошёл от ритуала, трагедия должна была прежде всего спровоцировать катарсис — сострадание и очищение в состоянии аффекта. Сильное духовное переживание, правда?
Колючий юмор Аристофана и других авторов комедий никто не отменял, но и к этим представлениям греки относились с уважением. Ну а что, дело-то государственное. В театре Диониса в Афинах 17 тысяч мест — ровно по количеству свободных граждан.
Все являлись, никто не уходил — хотя представления длились весь день. Художественный язык в целом был понятен всем, да и как тут уйти — не развлечение ведь.
Рим и развлечения
А вот тут авторитет театра пошатнулся сильно: культура завоеванных греков было не в чести, сценическое искусство упростилось до развлекательных представлений.
Все помнят бои гладиаторов, но вариантов было много. Например, римляне придумали навмахии: арена заливалась водой, туда запускались крокодилы, к ним бросали девушек без никакого оружия, потом кого-то напускали на самих крокодилов и так — сколько воображения хватит. Чистое зрелище.
Конечно, «серьёзный» театр не умер в этот момент, но выживать ему было трудно. Сенека писал исключительно драмы для чтения — во многом и не желая увидеть их на сцене ему современной.
Театр-развлечение не занимался смыслообразованием и не требовал к себе серьёзного отношения, скорее даже наоборот.
А потом Римская империя закончилась…
…и никто всё равно не принялся ставить трагедии Сенеки: набирающее силу христианство недолюбливало театр не меньше.
Но постепенно своеобразным театром стала сама церковная служба. Литургическая драма вышла сначала на паперть и стала полулитургической, потом на площадь — и стала мистерией. Никакого амфитеатра, защиты от грабежей и прочих правил, зато прийти мог кто угодно.
Несмотря на религиозно-догматический контекст — ставили истории святых — развлекательного в этих представлениях тоже было немало. За последним, должно быть, и шли зрители: мистерии были событием нечастым, и собирали вокруг себя огромное внимание.
Пуритане, ярусы и зрители на сцене
Новая мировоззренческая картина Возрождения, идея греческого эталона. Английские (и не только) пуритане продолжали душить театр, но безуспешно.
Появилась модель зала с ярусами: простолюдины стояли в партере, у людей более состоятельных была своя атмосфера в ложах — поход на спектакль становится во многом и светским жестом.
Конечно, «Гамлета» на заре его постановочной истории интерпретировали как драму мести, но всё-таки зритель был достаточно чуток, чтобы воспринимать сложные поэтические драмы.
Спектакли шли при дневном освещении, зрители активно реагировали на происходящее. Происходящее не позиционировалось как подражание реальности. Условность происходящего не скрывалась, чуть позже особенно богатые зрители стали покупать места прямо на сцене.
Странный момент общего довольства
На самом деле факт присутствия зрителей на сцене всех очень раздражал. Усилиями знаменитого английского актёра Дэвида Гаррика аристократов к 1747 г. пересадили в «ванночки» на уровне партера — так и появились ложи бенуара.
Немецкий актёр Людвиг Шрёдер изобретает павильон: четвёртая стена ещё не опустилась, но устойчивую позицию заняли первые три — на сцене впервые представлена комната. И всё-таки придворный этикет пока важнее правдоподобия.
Меньшинство интересующихся ходило на спектакли за смыслами (и спорило о них), большинство же — в качестве социального действия: театр всё больше привлекает светское общество, которое далеко не всегда занято спектаклем (почти никогда). Художественный язык не был универсален и понятен всем, но от него и не ждали ничего подобного.
Драки и темнота в зале
Романтических актёров XIX в. сильно нервировало то, что зрители в основном не были сосредоточены на спектакле. Заставить всех затихнуть и смотреть на сцену — высший пилотаж.
Но многих зрителей спектакль всё-таки занимал и даже очень сильно. Легендой стала премьера драмы «Эрнани» Виктора Гюго с её шокирующе нормальным, бытовым языком. Герой на сцене сказал: «Сударь, который час?», не произнеся перед этим монолог о быстротечности времени — и этот был нонсенс. В итоге зал разделился на два лагеря, которые долго переругивались, а под конец спектакля устроили драку.
Рихарда Вагнера несосредоточенность публики тоже раздражала. Именно он настоял, вопреки недовольству публики, на том, чтобы начать гасить свет в зале, освещая только сцену. Да-да, это произошло только в конце XIX века.
Поддержать иллюзию
Устойчивого восприятия себя как серьёзного искусства театр добился с началом режиссуры в XX веке. В МХТ зрители сидели в тёмном зале, не ведя никаких светских бесед. Опущенная Станиславским знаменитая «четвёртая стена» создавала ощущение правдоподобности.
МХТ требовал к себе серьёзного отношения — подхватил это и весь режиссёрский театр. Смыслообразование вышло на первый план; кроме того, советская власть быстро культивировала театр жизненных соответствий как единственно верный.
Зритель по-своему принимал участие в создании сценической иллюзии: «подыгрывал» не мешая событиям развиваться, буквально не «подавая голоса» вплоть до финала.
Сегодня
В советском театре сменные туфли и тактичное внимание к происходящему на сцене были обязательными атрибутами. Отчасти, потому что светский выход. Отчасти, потому что в принципе время от времени ходить в театр было как-то солидно. Справедливости ради, вариантов проведения досуга было несколько меньше.
Если вам доводилось бывать на перформансах, то вы точно обращали внимание, как иногда трудно людям осознать, что их призывают буквально вмешаться в действие. Четвёртой стены вроде бы и нет, но как-то её не хватает.
Вместе с тем уход посреди спектакля стал вполне часто практикой. Жест неуважения? Или просто отношения в обществе стали свободнее? Так или иначе, этика меняется вместе с самим театром — прямо у нас на глазах.
В разные времена на эти вопросы отвечали совершено по-разному
Начнём с древней Греции…
Греки были классными ребятами и к театру относились очень серьёзно. Греческий театр (читай: в принципе театр) произошёл от ритуала, трагедия должна была прежде всего спровоцировать катарсис — сострадание и очищение в состоянии аффекта. Сильное духовное переживание, правда?
Колючий юмор Аристофана и других авторов комедий никто не отменял, но и к этим представлениям греки относились с уважением. Ну а что, дело-то государственное. В театре Диониса в Афинах 17 тысяч мест — ровно по количеству свободных граждан.
Все являлись, никто не уходил — хотя представления длились весь день. Художественный язык в целом был понятен всем, да и как тут уйти — не развлечение ведь.
Рим и развлечения
А вот тут авторитет театра пошатнулся сильно: культура завоеванных греков было не в чести, сценическое искусство упростилось до развлекательных представлений.
Все помнят бои гладиаторов, но вариантов было много. Например, римляне придумали навмахии: арена заливалась водой, туда запускались крокодилы, к ним бросали девушек без никакого оружия, потом кого-то напускали на самих крокодилов и так — сколько воображения хватит. Чистое зрелище.
Конечно, «серьёзный» театр не умер в этот момент, но выживать ему было трудно. Сенека писал исключительно драмы для чтения — во многом и не желая увидеть их на сцене ему современной.
Театр-развлечение не занимался смыслообразованием и не требовал к себе серьёзного отношения, скорее даже наоборот.
А потом Римская империя закончилась…
…и никто всё равно не принялся ставить трагедии Сенеки: набирающее силу христианство недолюбливало театр не меньше.
Но постепенно своеобразным театром стала сама церковная служба. Литургическая драма вышла сначала на паперть и стала полулитургической, потом на площадь — и стала мистерией. Никакого амфитеатра, защиты от грабежей и прочих правил, зато прийти мог кто угодно.
Несмотря на религиозно-догматический контекст — ставили истории святых — развлекательного в этих представлениях тоже было немало. За последним, должно быть, и шли зрители: мистерии были событием нечастым, и собирали вокруг себя огромное внимание.
Пуритане, ярусы и зрители на сцене
Новая мировоззренческая картина Возрождения, идея греческого эталона. Английские (и не только) пуритане продолжали душить театр, но безуспешно.
Появилась модель зала с ярусами: простолюдины стояли в партере, у людей более состоятельных была своя атмосфера в ложах — поход на спектакль становится во многом и светским жестом.
Конечно, «Гамлета» на заре его постановочной истории интерпретировали как драму мести, но всё-таки зритель был достаточно чуток, чтобы воспринимать сложные поэтические драмы.
Спектакли шли при дневном освещении, зрители активно реагировали на происходящее. Происходящее не позиционировалось как подражание реальности. Условность происходящего не скрывалась, чуть позже особенно богатые зрители стали покупать места прямо на сцене.
Странный момент общего довольства
На самом деле факт присутствия зрителей на сцене всех очень раздражал. Усилиями знаменитого английского актёра Дэвида Гаррика аристократов к 1747 г. пересадили в «ванночки» на уровне партера — так и появились ложи бенуара.
Немецкий актёр Людвиг Шрёдер изобретает павильон: четвёртая стена ещё не опустилась, но устойчивую позицию заняли первые три — на сцене впервые представлена комната. И всё-таки придворный этикет пока важнее правдоподобия.
Меньшинство интересующихся ходило на спектакли за смыслами (и спорило о них), большинство же — в качестве социального действия: театр всё больше привлекает светское общество, которое далеко не всегда занято спектаклем (почти никогда). Художественный язык не был универсален и понятен всем, но от него и не ждали ничего подобного.
Драки и темнота в зале
Романтических актёров XIX в. сильно нервировало то, что зрители в основном не были сосредоточены на спектакле. Заставить всех затихнуть и смотреть на сцену — высший пилотаж.
Но многих зрителей спектакль всё-таки занимал и даже очень сильно. Легендой стала премьера драмы «Эрнани» Виктора Гюго с её шокирующе нормальным, бытовым языком. Герой на сцене сказал: «Сударь, который час?», не произнеся перед этим монолог о быстротечности времени — и этот был нонсенс. В итоге зал разделился на два лагеря, которые долго переругивались, а под конец спектакля устроили драку.
Рихарда Вагнера несосредоточенность публики тоже раздражала. Именно он настоял, вопреки недовольству публики, на том, чтобы начать гасить свет в зале, освещая только сцену. Да-да, это произошло только в конце XIX века.
Поддержать иллюзию
Устойчивого восприятия себя как серьёзного искусства театр добился с началом режиссуры в XX веке. В МХТ зрители сидели в тёмном зале, не ведя никаких светских бесед. Опущенная Станиславским знаменитая «четвёртая стена» создавала ощущение правдоподобности.
МХТ требовал к себе серьёзного отношения — подхватил это и весь режиссёрский театр. Смыслообразование вышло на первый план; кроме того, советская власть быстро культивировала театр жизненных соответствий как единственно верный.
Зритель по-своему принимал участие в создании сценической иллюзии: «подыгрывал» не мешая событиям развиваться, буквально не «подавая голоса» вплоть до финала.
Сегодня
В советском театре сменные туфли и тактичное внимание к происходящему на сцене были обязательными атрибутами. Отчасти, потому что светский выход. Отчасти, потому что в принципе время от времени ходить в театр было как-то солидно. Справедливости ради, вариантов проведения досуга было несколько меньше.
Если вам доводилось бывать на перформансах, то вы точно обращали внимание, как иногда трудно людям осознать, что их призывают буквально вмешаться в действие. Четвёртой стены вроде бы и нет, но как-то её не хватает.
Вместе с тем уход посреди спектакля стал вполне часто практикой. Жест неуважения? Или просто отношения в обществе стали свободнее? Так или иначе, этика меняется вместе с самим театром — прямо у нас на глазах.
Гамлет — женщина?!
Рубрика пост-пост мета-мета. Рассказываем о том, как мы перестали волноваться и полюбили кросс-кастинг.
Кросс… чего?
Вы видели спектакль, в котором мужского персонажа играла женщина (или наоборот)? Тогда — поздравляем, вы сталкивались с кросс-кастингом
Ещё это слово используют для ситуаций, когда юного героя исполняет артист в возрасте — или наоборот.
Принцип кросс-кастинга — в переворачивании. И применяется оно для разных целей
Кстати, приём не новый
От слова совсем.
Ещё в XIX веке была такая штука — травести. Юные хрупкие актрисы надевали парики и мужские костюмы и создавали персонажей вроде Виолы из «Двенадцатой ночи» Шекспира (помните, она там долго молодым человеком притворяется)
Все понимали, что на сцене женщина и почему она переоделась во что-то неподобающее. Но это был такой аспект игры, видимо, по-своему очаровательный
Но это был ещё не кросс-кастинг
Сара Бернар
Не факт, но почти точно кросс-кастинг начался с неё. И дело было в 1899 г. (!)
В двух словах, Бернар взяла и сыграла Гамлета. Несмотря на все модернистские дела Франции конца века, это всё равно был экстрим. Но успех был огромен, как слава Бернар к тому времени, так что судьба спектакля и роли сложилась прекрасно.
Что же такого сделала Бернар?
Персонаж вне гендера
Кросс-кастинг позволяет играть персонажа как человека вообще
У Гамлета нет и не может быть психологических мотивировок. Он занят экзистенциальными проблемами, проблемами существования в целом. Не суть важно, сколько такому герою лет, что у него написано в паспорте и что он ел на завтрак
Гамлет — это сущность. Это такая вечная душа, мучающаяся вечными вопросами
Кросс-кастинг — очень серьёзная штука
Сам прием переворачивания нужен прежде всего для того, чтобы акцентировать зрительское внимание. Согласитесь, напрягаешься — пусть даже и в хорошем смысле — когда видишь некое «несоответствие» актёра и персонажа.
В качественных спектаклях этот приём всегда содержательно оправдан.
Например, когда Алиса Фрейндлих играет (играла) мальчика Оскара, которому осталось жить чуть больше недели, и он старается успеть всё на свете за оставшиеся дни — согласитесь, образ возникает крутой. Актриса играет что-то нежное и хрупкое, при этом мы понимаем, сколько ей лет на самом деле.
В итоге в Оскаре детскость и непосредственность сочетаются с мудростью и ощущением, будто бы он многое пережил. А он ведь и правда очень много пережил, просто непривычно быстро и непривычно рано. И фактически остался при этом ещё совсем юным мальчиком
И всё-таки Гамлет
«Гамлет», конечно, не даёт покоя любому порядочному режиссёру, и хотя бы раз в жизни, хотя бы мысленно… (шутка)
Всё же Гамлет-женщина — это круто. Почему?
Исполнитель-женщина по-своему обостряет образ Гамлета. Становится ещё более явным мотив непосильного бремени, мучительного состояния трагического выбора. С актрисой в этом случае проще расставить конкретные акценты.
Мужское и женское
Вопрос о выборе мужчины на женскую роль (или наоборот) — вопрос о вечных смыслах мужского и женского на сцене.
Например, в нашумевших «Служанках» Виктюка героинь играли мужчины. Виктюк в этом отношении, конечно, своеобразно истолковал слова драматурга, Жана Жене (идея Жене — актрисы должны играть так, как будто бы они мужчины), но сам ход понятен: странные, неживые персонажи Жене благодаря актёрам-мужчинам приобретают что-то пугающее, в них чувствуется разрушительная сила.
Кросс… чего?
Вы видели спектакль, в котором мужского персонажа играла женщина (или наоборот)? Тогда — поздравляем, вы сталкивались с кросс-кастингом
Ещё это слово используют для ситуаций, когда юного героя исполняет артист в возрасте — или наоборот.
Принцип кросс-кастинга — в переворачивании. И применяется оно для разных целей
Кстати, приём не новый
От слова совсем.
Ещё в XIX веке была такая штука — травести. Юные хрупкие актрисы надевали парики и мужские костюмы и создавали персонажей вроде Виолы из «Двенадцатой ночи» Шекспира (помните, она там долго молодым человеком притворяется)
Все понимали, что на сцене женщина и почему она переоделась во что-то неподобающее. Но это был такой аспект игры, видимо, по-своему очаровательный
Но это был ещё не кросс-кастинг
Сара Бернар
Не факт, но почти точно кросс-кастинг начался с неё. И дело было в 1899 г. (!)
В двух словах, Бернар взяла и сыграла Гамлета. Несмотря на все модернистские дела Франции конца века, это всё равно был экстрим. Но успех был огромен, как слава Бернар к тому времени, так что судьба спектакля и роли сложилась прекрасно.
Что же такого сделала Бернар?
Персонаж вне гендера
Кросс-кастинг позволяет играть персонажа как человека вообще
У Гамлета нет и не может быть психологических мотивировок. Он занят экзистенциальными проблемами, проблемами существования в целом. Не суть важно, сколько такому герою лет, что у него написано в паспорте и что он ел на завтрак
Гамлет — это сущность. Это такая вечная душа, мучающаяся вечными вопросами
Кросс-кастинг — очень серьёзная штука
Сам прием переворачивания нужен прежде всего для того, чтобы акцентировать зрительское внимание. Согласитесь, напрягаешься — пусть даже и в хорошем смысле — когда видишь некое «несоответствие» актёра и персонажа.
В качественных спектаклях этот приём всегда содержательно оправдан.
Например, когда Алиса Фрейндлих играет (играла) мальчика Оскара, которому осталось жить чуть больше недели, и он старается успеть всё на свете за оставшиеся дни — согласитесь, образ возникает крутой. Актриса играет что-то нежное и хрупкое, при этом мы понимаем, сколько ей лет на самом деле.
В итоге в Оскаре детскость и непосредственность сочетаются с мудростью и ощущением, будто бы он многое пережил. А он ведь и правда очень много пережил, просто непривычно быстро и непривычно рано. И фактически остался при этом ещё совсем юным мальчиком
И всё-таки Гамлет
«Гамлет», конечно, не даёт покоя любому порядочному режиссёру, и хотя бы раз в жизни, хотя бы мысленно… (шутка)
Всё же Гамлет-женщина — это круто. Почему?
Исполнитель-женщина по-своему обостряет образ Гамлета. Становится ещё более явным мотив непосильного бремени, мучительного состояния трагического выбора. С актрисой в этом случае проще расставить конкретные акценты.
Мужское и женское
Вопрос о выборе мужчины на женскую роль (или наоборот) — вопрос о вечных смыслах мужского и женского на сцене.
Например, в нашумевших «Служанках» Виктюка героинь играли мужчины. Виктюк в этом отношении, конечно, своеобразно истолковал слова драматурга, Жана Жене (идея Жене — актрисы должны играть так, как будто бы они мужчины), но сам ход понятен: странные, неживые персонажи Жене благодаря актёрам-мужчинам приобретают что-то пугающее, в них чувствуется разрушительная сила.
Так автор написал!
Сцены идут в обратном порядке? Нормально. Спектакль по «Анне Карениной» называется «Серёжа»? Нашли чем удивить. Князь Мышкин читает стихи Дельфинова и носит плащ от современного дизайнера? Видели и такое.
Переработка текста первоисточника для спектакля — отнюдь не открытие XXI века, но почему-то именно вмешательство в устройство классического текста чаще всего ставят в вину современным режиссёрам.
«Вот пусть свои пьесы напишут — и их ставят!» — обычно говорят возмущённые люди. Логика понятна: Чехов написал так, а на сцене почему-то говорят этак. В пьесе все в платьях с кринолинами (прямо так и написано!), а на сцене в майках-алкоголичках и колготках в сетку. Что, получается, Чехов не знал, как правильно написать?
Нет, Чехов всё прекрасно знал. Просто никакого «правильно» в сфере искусства не существует.
Теория языков
У каждого вида искусства есть определённый набор средств выразительности. В совокупности их можно называть языком: так художник «говорит», то есть, доносит смыслы при помощи работы с линией и плоскостью, светом и тенью, композицией и цветом. Так музыка «говорит» при помощи нот, а литература — при помощи слов.
То есть, литературное слово — это не то же самое, что слово в жизни. Это определённое средство художественной выразительности.
«Перевод» с одного языка на другой
Что будет, если художник напишет картину под впечатлением от сюиты, например? С точки зрения концепции языков это будет что-то вроде перевода — с языка музыки на язык живописи.
Но! Мы же не будем ждать от художника в этом случае, что он вот прямо возьмёт и раскроет смысл сюиты, правда? Тем более, слова «сюита» и «смысл» даже как-то не очень сочетаются. Плюс, мы не можем и художнику отказывать в праве на творчество — вдохновлялся он сюитой или нет.
При чём тут театр
Когда режиссёр работает с литературным источником он тоже осуществляет что-то вроде перевода. Текст, когда его произносит вслух несколько актёров, в любом случае будет восприниматься не в точности так же, как если бы мы с вами читали его дома в кресле за чашкой чая.
Особенно если речь идёт не о пьесе или о пьесе, написанной очень давно или вовсе не для театра (такие бывают).
Маленькое «но»
Признаем: у театра и литературы всё-таки не в точности такие же отношения, как и живописи и музыки. Засада в том, что театр — это полиязычное искусство. То есть, театр использует средства выразительности сразу нескольких языков: тут и музыка звучит, и картинка выстроена, и пластика актёров продумана, и слова какие-то звучат.
Но сути это не меняет: у писателя есть только слова, а у режиссёра — ещё куча всего другого, не менее интересного. Закономерно, что и высказывания у них получаются немного разные. Или не немного.
В начале было слово. Или не слово?
Если спектакль строится от текста — логично, что мы с вами придём и узнаем сто раз читаного Достоевского. А если режиссёр отталкивался от работы пространством, телом или звуком — вполне возможно, что текст изменится сильно. И это нормально.
Сделав маленький экскурс в историю, можно легко убедиться, что всегда были люди, убеждённые, что театр должен освободиться от уз пьесы. Можно вспомнить, к примеру, многовековую традицию итальянской комедии дель арте: там был текст, но, главным образом, импровизированный.
Сокращения
Самый очевидный повод обработать литературный текст перед постановкой — объём. Даже пьесу Чехова затруднительно будет поставить целиком — это мероприятие часа на четыре, не всем интересно работать с такой формой.
Что и говорить о прозе. Автор инсценировки вынужден не только прибегать к сокращениям, но и — обычно по наводке режиссёра — выбирать главные сюжетные линии, отказываясь от второстепенного.
Контекст
Иногда важно перенести действие в современность — это очень действенный способ сближения. А ещё можно дополнить текст — на правах ассоциации. Так в нашем спектакле «Король умирает», поставленном по одноимённой пьесе Эжена Ионеско, появляется монолог авторства психолога Станислава Грофа.
Гроф исследовал состояния изменённого сознания с точки зрения их познавательного и терапевтического потенциала, разработал технику холотропного дыхания. Такой контекст помогает рассказать историю о смерти, лежащую в основе и пьесы, и спектакля, без трагической интонации.
Деконструкция и пересоздание
Классика на то и классика, что она выдерживает испытание временем. Разбирая Шекспира, Чехова или Ионеско на винтики, режиссёры нередко превращают спектакль в исследование — и вместе со зрителями погружаются в дебри того или иного текста, прокручивая важные сцены по несколько раз или пуская действие в обратном порядке. Оригинал-то от этого не пострадает — его всегда можно прочитать. А вот мы с вами получим новый опыт.
Парадокс в том, что так давно знакомые тексты открываются в совершенно новом качестве. Оказывается, Шекспир писал о тех самых страстях, которые мучают человека и сейчас.
Переработка текста первоисточника для спектакля — отнюдь не открытие XXI века, но почему-то именно вмешательство в устройство классического текста чаще всего ставят в вину современным режиссёрам.
«Вот пусть свои пьесы напишут — и их ставят!» — обычно говорят возмущённые люди. Логика понятна: Чехов написал так, а на сцене почему-то говорят этак. В пьесе все в платьях с кринолинами (прямо так и написано!), а на сцене в майках-алкоголичках и колготках в сетку. Что, получается, Чехов не знал, как правильно написать?
Нет, Чехов всё прекрасно знал. Просто никакого «правильно» в сфере искусства не существует.
Теория языков
У каждого вида искусства есть определённый набор средств выразительности. В совокупности их можно называть языком: так художник «говорит», то есть, доносит смыслы при помощи работы с линией и плоскостью, светом и тенью, композицией и цветом. Так музыка «говорит» при помощи нот, а литература — при помощи слов.
То есть, литературное слово — это не то же самое, что слово в жизни. Это определённое средство художественной выразительности.
«Перевод» с одного языка на другой
Что будет, если художник напишет картину под впечатлением от сюиты, например? С точки зрения концепции языков это будет что-то вроде перевода — с языка музыки на язык живописи.
Но! Мы же не будем ждать от художника в этом случае, что он вот прямо возьмёт и раскроет смысл сюиты, правда? Тем более, слова «сюита» и «смысл» даже как-то не очень сочетаются. Плюс, мы не можем и художнику отказывать в праве на творчество — вдохновлялся он сюитой или нет.
При чём тут театр
Когда режиссёр работает с литературным источником он тоже осуществляет что-то вроде перевода. Текст, когда его произносит вслух несколько актёров, в любом случае будет восприниматься не в точности так же, как если бы мы с вами читали его дома в кресле за чашкой чая.
Особенно если речь идёт не о пьесе или о пьесе, написанной очень давно или вовсе не для театра (такие бывают).
Маленькое «но»
Признаем: у театра и литературы всё-таки не в точности такие же отношения, как и живописи и музыки. Засада в том, что театр — это полиязычное искусство. То есть, театр использует средства выразительности сразу нескольких языков: тут и музыка звучит, и картинка выстроена, и пластика актёров продумана, и слова какие-то звучат.
Но сути это не меняет: у писателя есть только слова, а у режиссёра — ещё куча всего другого, не менее интересного. Закономерно, что и высказывания у них получаются немного разные. Или не немного.
В начале было слово. Или не слово?
Если спектакль строится от текста — логично, что мы с вами придём и узнаем сто раз читаного Достоевского. А если режиссёр отталкивался от работы пространством, телом или звуком — вполне возможно, что текст изменится сильно. И это нормально.
Сделав маленький экскурс в историю, можно легко убедиться, что всегда были люди, убеждённые, что театр должен освободиться от уз пьесы. Можно вспомнить, к примеру, многовековую традицию итальянской комедии дель арте: там был текст, но, главным образом, импровизированный.
Сокращения
Самый очевидный повод обработать литературный текст перед постановкой — объём. Даже пьесу Чехова затруднительно будет поставить целиком — это мероприятие часа на четыре, не всем интересно работать с такой формой.
Что и говорить о прозе. Автор инсценировки вынужден не только прибегать к сокращениям, но и — обычно по наводке режиссёра — выбирать главные сюжетные линии, отказываясь от второстепенного.
Контекст
Иногда важно перенести действие в современность — это очень действенный способ сближения. А ещё можно дополнить текст — на правах ассоциации. Так в нашем спектакле «Король умирает», поставленном по одноимённой пьесе Эжена Ионеско, появляется монолог авторства психолога Станислава Грофа.
Гроф исследовал состояния изменённого сознания с точки зрения их познавательного и терапевтического потенциала, разработал технику холотропного дыхания. Такой контекст помогает рассказать историю о смерти, лежащую в основе и пьесы, и спектакля, без трагической интонации.
Деконструкция и пересоздание
Классика на то и классика, что она выдерживает испытание временем. Разбирая Шекспира, Чехова или Ионеско на винтики, режиссёры нередко превращают спектакль в исследование — и вместе со зрителями погружаются в дебри того или иного текста, прокручивая важные сцены по несколько раз или пуская действие в обратном порядке. Оригинал-то от этого не пострадает — его всегда можно прочитать. А вот мы с вами получим новый опыт.
Парадокс в том, что так давно знакомые тексты открываются в совершенно новом качестве. Оказывается, Шекспир писал о тех самых страстях, которые мучают человека и сейчас.
Смех, слёзы, катарсис
Если вы хоть раз чувствовали, что во время спектакля вас душат слёзы — вы точно понимаете, о чём мы. Со стороны может показаться, что это сумасшествие: как можно настолько сильно переживать из-за судьбы сценического персонажа?
Но мы почему-то всё равно переживаем. А порой под влиянием театральных впечатлений даже принимаем решения, которые касаются нашей, абсолютно реальной жизни.
Так в чём же дело?
Театр отличается от других искусств, в сущности, двумя вещами. Во-первых, его создают живые люди на глазах у таких же живых людей. Во-вторых, спектакль существует только здесь и сейчас. Даже завтра его будет невозможно повторить, в точности копируя каждый жест и каждую интонацию — ведь завтра артисты проснутся немного другими, да и в зал придут другие зрители.
Поэтому спектакль — это не только сценография, роли, костюмы, свет и звук. Но ещё и своеобразная коммуникативная ситуация, которая возникает между человеком на сцене и человеком в зале.
Возможно, это и есть та самая уникальная черта, которая делает театр театром. Сейчас объясним почему.
Есть сюжет пьесы (или другого материала — неважно), который разыгрывается разными сценическими средствами. Сам этот процесс, связан, согласитесь, с высокой степенью условности: даже в самом реалистическом театре мы прекрасно отдаём себе отчёт в том, что на сцене — не Ромео, а актёр в роли Ромео. То есть, перед нами в любом случае двое: актёр и персонаж.
А теперь вопрос: вы когда-нибудь замечали, что переживаете странный, парадоксальный душевный подъём на самом, казалось бы, трагическом моменте спектакля?
То есть, Ромео (вместе с Джульеттой) умирает, всё ужасно — вам горько, страшно и так далее. Но почему-то вдруг из этих ощущений начинает вырастать очень сильное светлое чувство. Почти счастье.
Звучит безумно? Для жизни — да. Для театра — нисколько.
На самом деле, Ромео не может умереть: он не человек, а условное лицо, более того, часть мировой культуры. А вот актёр смертен, и сам факт его возвращения из мира умерших — опыт преодоления.
И зритель переживает это возвращение вместе с актёром. Иначе говоря, просмотр трагического спектакля — это, по сути, опыт принятия и преодоления трагического в собственной душе.
Как так получается? Вот тут нам и приходит на помощь коммуникация. Хотим мы этого или нет, мы всё равно воспринимаем исполнителя роли Ромео и как просто человека тоже. То есть, считываем невербальные знаки — как мы делаем и в жизни, в обычном разговоре, обращая внимание не только на слова, но и на жесты, на мимику.
Точно так же и в театре. На самом деле весь спектакль мы наблюдаем не только за Ромео, но и за актёром. Поэтому его судьба тревожит нас не меньше, чем судьба героя.
Ритуал
Ритуалы родился задолго до Древней Греции и продолжает существовать до сих пор. Ритуал — скорее предок театра, чем непосредственная его часть: ведь здесь нет зрителей, только участники. Но всё-таки связь сильна.
Ритуальная практика (не всегда, но часто) предполагает, что все собравшиеся входят в состояние изменённого сознания и вступают в контакт с высшими силами. Что тут важно для театра:
а) исключительно значимое соприсутствие,
б) общий для всех участников закон условности: все верят, что шаман должен выполнить конкретные действия, и тогда бог дождя точно придёт (например)
Всё это есть и в XXI веке.
Перформанс
От древнейшего — к новейшему: перформеры недаром интересовались ритуальной культурой. К примеру, в культовом спектакле Ричарда Шехнера «Дионис-69» сознательно стиралось различие между зрителем и актёром. в действие втягивались все, в результате акция обретала сильное социально-политическое звучание.
Закон, который выводит исследовательница перформанса Эрика Фишер-Лихте, относим, впрочем, и к театру в целом. Фишер-Лихте убеждена, что между сценой и залом существует «петля ответной реакции». Всё та же коммуникация: энергия, которую актёр посылает со сцены, возвращается к нему, удвоенная зрительской отдачей — и так весь спектакль. Неудивительно, что к концу мы особенно сильно включены в происходящее на сцене.
Юнг и архетипы
Один из создателей психонализа, Карл Густав Юнг, полагал, что личность человека состоит из архетипов: противоречивых сочетаний разных начал, которые, тем не менее, никогда не могут быть разорваны. Это, например, эго, тень, анима и анимус, самость.
Базовые черты нашей личности, факт существования которых мы и сами не осознаём, будучи проявлены на сцене, не требуют ни разъяснений, ни перевода — мы считываем их интуитивно. Так две стороны анимы — это мать и смерть, а Мефистофель — в чистом виде тень.
Работая с архетипами, театр обращается к самим основам нашего «я» — и воздействует на нас как будто бы помимо сознания.
Но мы почему-то всё равно переживаем. А порой под влиянием театральных впечатлений даже принимаем решения, которые касаются нашей, абсолютно реальной жизни.
Так в чём же дело?
Театр отличается от других искусств, в сущности, двумя вещами. Во-первых, его создают живые люди на глазах у таких же живых людей. Во-вторых, спектакль существует только здесь и сейчас. Даже завтра его будет невозможно повторить, в точности копируя каждый жест и каждую интонацию — ведь завтра артисты проснутся немного другими, да и в зал придут другие зрители.
Поэтому спектакль — это не только сценография, роли, костюмы, свет и звук. Но ещё и своеобразная коммуникативная ситуация, которая возникает между человеком на сцене и человеком в зале.
Возможно, это и есть та самая уникальная черта, которая делает театр театром. Сейчас объясним почему.
Есть сюжет пьесы (или другого материала — неважно), который разыгрывается разными сценическими средствами. Сам этот процесс, связан, согласитесь, с высокой степенью условности: даже в самом реалистическом театре мы прекрасно отдаём себе отчёт в том, что на сцене — не Ромео, а актёр в роли Ромео. То есть, перед нами в любом случае двое: актёр и персонаж.
А теперь вопрос: вы когда-нибудь замечали, что переживаете странный, парадоксальный душевный подъём на самом, казалось бы, трагическом моменте спектакля?
То есть, Ромео (вместе с Джульеттой) умирает, всё ужасно — вам горько, страшно и так далее. Но почему-то вдруг из этих ощущений начинает вырастать очень сильное светлое чувство. Почти счастье.
Звучит безумно? Для жизни — да. Для театра — нисколько.
На самом деле, Ромео не может умереть: он не человек, а условное лицо, более того, часть мировой культуры. А вот актёр смертен, и сам факт его возвращения из мира умерших — опыт преодоления.
И зритель переживает это возвращение вместе с актёром. Иначе говоря, просмотр трагического спектакля — это, по сути, опыт принятия и преодоления трагического в собственной душе.
Как так получается? Вот тут нам и приходит на помощь коммуникация. Хотим мы этого или нет, мы всё равно воспринимаем исполнителя роли Ромео и как просто человека тоже. То есть, считываем невербальные знаки — как мы делаем и в жизни, в обычном разговоре, обращая внимание не только на слова, но и на жесты, на мимику.
Точно так же и в театре. На самом деле весь спектакль мы наблюдаем не только за Ромео, но и за актёром. Поэтому его судьба тревожит нас не меньше, чем судьба героя.
Ритуал
Ритуалы родился задолго до Древней Греции и продолжает существовать до сих пор. Ритуал — скорее предок театра, чем непосредственная его часть: ведь здесь нет зрителей, только участники. Но всё-таки связь сильна.
Ритуальная практика (не всегда, но часто) предполагает, что все собравшиеся входят в состояние изменённого сознания и вступают в контакт с высшими силами. Что тут важно для театра:
а) исключительно значимое соприсутствие,
б) общий для всех участников закон условности: все верят, что шаман должен выполнить конкретные действия, и тогда бог дождя точно придёт (например)
Всё это есть и в XXI веке.
Перформанс
От древнейшего — к новейшему: перформеры недаром интересовались ритуальной культурой. К примеру, в культовом спектакле Ричарда Шехнера «Дионис-69» сознательно стиралось различие между зрителем и актёром. в действие втягивались все, в результате акция обретала сильное социально-политическое звучание.
Закон, который выводит исследовательница перформанса Эрика Фишер-Лихте, относим, впрочем, и к театру в целом. Фишер-Лихте убеждена, что между сценой и залом существует «петля ответной реакции». Всё та же коммуникация: энергия, которую актёр посылает со сцены, возвращается к нему, удвоенная зрительской отдачей — и так весь спектакль. Неудивительно, что к концу мы особенно сильно включены в происходящее на сцене.
Юнг и архетипы
Один из создателей психонализа, Карл Густав Юнг, полагал, что личность человека состоит из архетипов: противоречивых сочетаний разных начал, которые, тем не менее, никогда не могут быть разорваны. Это, например, эго, тень, анима и анимус, самость.
Базовые черты нашей личности, факт существования которых мы и сами не осознаём, будучи проявлены на сцене, не требуют ни разъяснений, ни перевода — мы считываем их интуитивно. Так две стороны анимы — это мать и смерть, а Мефистофель — в чистом виде тень.
Работая с архетипами, театр обращается к самим основам нашего «я» — и воздействует на нас как будто бы помимо сознания.

Театр зрителя
Роли, которые играет зритель: что изменилось от древности до наших дней
Зачем нужна музыка в спектакле
Сложно найти спектакль, в котором нет музыки — вот прямо совсем, вот прямо никакой. Она может звучать на фоне, может быть со словами или без, может быть современной или классической. И даже артхаусной. Кстати, сами актёры тоже могут её исполнять.
Зачем? Мы нашли как минимум 6 причин — листайте карточки!
Если обобщить…
Если коротко: музыка помогает раскрыть подлинное содержание происходящего. Не все чувства можно описать словами, не все события и состояния можно назвать объяснить. Музыка же — предмет универсального выражения всего невыразимого. Вот звучит элементарное до-ре-ми-ре-си-до — и почему-то ты сразу понимаешь, что это про любовь. Почему? А неизвестно.
Так что музыка, как один из языков театра, как минимум помогает ему быть выразительнее.
Как именно?
Внутренний мир героя
Музыка может помогать показать — и при этом может не прозвучать ни одного слова! — что на самом деле переживает герой. Даже если другие действующие лица, исходя из предложенных обстоятельств, ничего об этом не знают.
Например, такими средствами можно показать глубокую драму одиночества или невысказанных чувств. Режиссёр как бы говорит таким образом, что звучащая композиция очень точно описывает состояние и мысли героя.
Контрапункт
А ещё музыка может много рассказать и о происходящем в целом. Так, в сцену, которая вроде бы выглядит вполне оптимистичной, легко может быть включена очень грустная музыкальная композиция. Нам как зрителям такой приём может дать понять, что вообще-то всё не так уж и хорошо, как кажется.
Может быть, герои на самом деле несчастны и не хотят этого признавать? Может быть, с ними вот-вот случится что-то трагическое, и от светлого момента останутся только воспоминания?
Ирония
Или наоборот: всё, очевидно, очень грустно — а музыка почему-то звучит нарочито радостная. И (в большинстве случаев) это будет не столько даже признак режиссёрской иронии, сколько отражение горькой иронии судьбы.
Такой ход есть в конце нашего спектакля «Машина едет к морю». Согласитесь, небо в алмазах Виктора, Бориса и Дедушку скорее всего не ждёт. А звучит почему-то песня вдохновенная «И на Марсе будут яблони цвести». Что это, как не ирония судьбы.
Ускорение/замедление времени
Все мы понимаем, что за три часа реального времени на сцене могут пройти месяц и годы. С этой условностью приходится иметь дело даже самым отчаянным поборникам реализма. Ведь надо как-то показать, что между сценой 1 и 2 прошло три дня, например.
И музыка в этом помогает. Она, конечно, не покажет зрителю, сколько именно времени прошло, но даст ему что-то вроде знака «а вот сейчас мы чуть-чуть перемотаем и посмотрим, что было потом».
Пространство
А ещё музыка может формировать пространство. Да-да, тут то же, что и со временем: мы с вами прекрасно понимаем, что сцена маленькая (или большая). Но как же так получается, что в какой-то момент мы начинаем отчётливо ощущать, что у неё как будто бы вообще нет стен? Это, конечно, скорее про работу со светом — но и со звуком тоже.
Помните наш спектакль «Цирк Умвельт»? Благодаря эффектам эха и «мерцающего» звука наша (крохотная!) сцена превращалась во что-то гулкое и почти безразмерное.
Структура действия
Это самое сложное, но и самое интересное. Иногда логика построения музыкального произведения подсказывает порядок расположения сцен в спектакле.
Можно рассказывать историю по порядку, а можно найти в ней какую-то главную тему, лейтмотив, а всё остальное построить вокруг неё. Дело в том, что у музыки есть определённые законы композиции — и они очень близки логике современного театра. Так что спектакль может быть похож на тему с вариациями, на симфонию или ещё на что-то.
Красиво же, правда?
Зачем? Мы нашли как минимум 6 причин — листайте карточки!
Если обобщить…
Если коротко: музыка помогает раскрыть подлинное содержание происходящего. Не все чувства можно описать словами, не все события и состояния можно назвать объяснить. Музыка же — предмет универсального выражения всего невыразимого. Вот звучит элементарное до-ре-ми-ре-си-до — и почему-то ты сразу понимаешь, что это про любовь. Почему? А неизвестно.
Так что музыка, как один из языков театра, как минимум помогает ему быть выразительнее.
Как именно?
Внутренний мир героя
Музыка может помогать показать — и при этом может не прозвучать ни одного слова! — что на самом деле переживает герой. Даже если другие действующие лица, исходя из предложенных обстоятельств, ничего об этом не знают.
Например, такими средствами можно показать глубокую драму одиночества или невысказанных чувств. Режиссёр как бы говорит таким образом, что звучащая композиция очень точно описывает состояние и мысли героя.
Контрапункт
А ещё музыка может много рассказать и о происходящем в целом. Так, в сцену, которая вроде бы выглядит вполне оптимистичной, легко может быть включена очень грустная музыкальная композиция. Нам как зрителям такой приём может дать понять, что вообще-то всё не так уж и хорошо, как кажется.
Может быть, герои на самом деле несчастны и не хотят этого признавать? Может быть, с ними вот-вот случится что-то трагическое, и от светлого момента останутся только воспоминания?
Ирония
Или наоборот: всё, очевидно, очень грустно — а музыка почему-то звучит нарочито радостная. И (в большинстве случаев) это будет не столько даже признак режиссёрской иронии, сколько отражение горькой иронии судьбы.
Такой ход есть в конце нашего спектакля «Машина едет к морю». Согласитесь, небо в алмазах Виктора, Бориса и Дедушку скорее всего не ждёт. А звучит почему-то песня вдохновенная «И на Марсе будут яблони цвести». Что это, как не ирония судьбы.
Ускорение/замедление времени
Все мы понимаем, что за три часа реального времени на сцене могут пройти месяц и годы. С этой условностью приходится иметь дело даже самым отчаянным поборникам реализма. Ведь надо как-то показать, что между сценой 1 и 2 прошло три дня, например.
И музыка в этом помогает. Она, конечно, не покажет зрителю, сколько именно времени прошло, но даст ему что-то вроде знака «а вот сейчас мы чуть-чуть перемотаем и посмотрим, что было потом».
Пространство
А ещё музыка может формировать пространство. Да-да, тут то же, что и со временем: мы с вами прекрасно понимаем, что сцена маленькая (или большая). Но как же так получается, что в какой-то момент мы начинаем отчётливо ощущать, что у неё как будто бы вообще нет стен? Это, конечно, скорее про работу со светом — но и со звуком тоже.
Помните наш спектакль «Цирк Умвельт»? Благодаря эффектам эха и «мерцающего» звука наша (крохотная!) сцена превращалась во что-то гулкое и почти безразмерное.
Структура действия
Это самое сложное, но и самое интересное. Иногда логика построения музыкального произведения подсказывает порядок расположения сцен в спектакле.
Можно рассказывать историю по порядку, а можно найти в ней какую-то главную тему, лейтмотив, а всё остальное построить вокруг неё. Дело в том, что у музыки есть определённые законы композиции — и они очень близки логике современного театра. Так что спектакль может быть похож на тему с вариациями, на симфонию или ещё на что-то.
Красиво же, правда?
Кино в театре
Проекции, фрагменты видео, а то и полноценное внутреннее кино — сегодня такими вставками в спектакле никого не удивить: и вовсе не 20 или 30 лет назад режиссёры придумали это придумали. Впервые видео было использовано в театре ровно сто лет назад, в 1924 г.
Историческая дата, которая вряд ли в моменте так воспринималась. А между тем роман театра с кино длится уже век — и театр не только не исчез, но наоборот, даже набрался сил за счёт родственного искусства. Как же так получилось?
С чего началось
Первым проекции в театре использовал немецкий режиссёр Эрвин Пискатор. Замечательное лицо в истории театра: именно он придумал Политический театр — легендарного прадедушку всех документальных театров мира.
Так что и проекции ему понадобились неспроста. В том спектакле 1924 года, «Знамёна», рассказывалось о несправедливо приговорённых к смертной казни чикагских рабочих (реальная история из 1880-х гг.). Пискатор вывел на экран портреты актёров, которые исполняли роли рабочих — и это был как будто бы документ, подтверждающий связь 80-х и 20-х.
Кстати, про крупные планы
Вы никогда не задумывались, зачем они используются в кино? В жизни мы видим в таких подробностях лица очень немногих людей, в основном родных и близких. По идее, оказавшись на критически маленькой дистанции, мы получаем возможность очень хорошо узнать человека, узнать, как и о чём он думает, какие чувства его одолевают.
Крупные планы воссоздают именно такой эффект: сближения с героем, заглядывания в его внутренний мир — поэтому мы начинаем сопереживать ему как реальному человеку. Представляете, как интересно получается, когда такое появляется в театре — где обычно мы в принципе не можем увидеть человека с расстояния меньше пары метров?
Сближение и отдаление
Но всё не так просто. Крупный план в кино — предельная степень близости к герою. А в театре — и так, и совершенно наоборот. Ведь как бы хорошо нам ни было видно с 20-го ряда (например) лицо Константина Богомолова в его же спектакле «Бесы Достоевского», мы не можем не замечать, что на экране — только проекция, а настоящий Богомолов — вот он, в ту же секунду стоит на сцене, довольно маленький, но черты лица рассмотреть можно.
Случается странное: мы узнаём и как будто бы не узнаём человека, сопоставляя реальную и видео-версии. И непонятно, какая из них важнее.
Альтернативная точка зрения
Как известно, спектакль, посмотренный с третьего яруса, и спектакль, посмотренный из первого ряда партера — это два разных спектакля. И «правильного» ракурса не существует.
Но ситуация меняется, когда в игру вступает пресловутый человек с киноаппаратом: ведь в кино-то ракурс всегда чётко определён! Записано ли видео заранее или, наоборот, снимается прямо во время спектакля — с какой точки смотреть на героев всё равно кто-то решил (обычно режиссёр, конечно). То есть, вместе с видео нам предлагается ещё и какое-то определённое видение событий. Иногда — конкретного героя, а иногда — неизвестного наблюдателя.
Расслоение реальности
А ещё нередко видео нужно, чтобы усложнить структуру спектакля. Например, у Кэти Митчелл в «Орландо» (Шаубюне, 2019), кино снимается параллельно действию на сцене все 2 часа спектакля.
Над сценой висит огромный экран, на котором есть и крупные планы, и общие, и даже сиюминутный монтаж — по сути, это отдельный аспект действия. Реальность и правда расслаивается: камеры словно бы ощупывают актрису и сцену, пытаясь понять, о чём же на самом деле эта история? Режиссёр не пытается упаковать роман Вирджинии Вульф в конкретной трактовку, но наоборот показывает всю его взбалмошность. И получается круто.
Кино как документ
Иногда видео превращается в полноценный документ: например, когда это реальная хроника, которая приносит на сцену артефакт реальности.
А бывает иначе. Например, в спектакле Волкострелова «Ленточки» (2021), посвящённому протестам в Беларуси, было много документальной съёмки красно-белых ленточек на улицах Минска. При этом никаких митингов и вообще человеческих лиц на съёмке не было: такая хроника молчаливого сопротивления. Вот только снято это было лирически, и реальный сюжет на глазах становился предметом искусства — не теряя при этом драматизма.
Вообще-то у видео на сцене не очень получается оставаться в роли документа: нести сухую и часто жестокую правду жизни. Мы всё равно будем воспринимать его как ещё одно измерение театральной реальности — но это вовсе не значит, что из какого-то остросоциального, болезненного материала мы не вынесем никаких смыслов, напротив.
Разница только в том, что мы воспримем его не так же, как очередную новость в тг-канале: от новостей мы — вольно или невольно — научились абстрагироваться, а вот от искусства — попробуй научись.
Кино в театре — всегда про границы подлинности. Про наши сомнения в том, насколько мы вообще понимаем друг друга и самих себя. Театр ХХ века почувствовал, что человек теряет способность к сопереживанию: это проклятье века информации — слишком много всего, слишком много катастроф, казалось бы, если всё знать, можно сойти с ума. Театр играет с кино, отражая расслоение современной реальности на физическую и экранную. Но, как ни странно, в конце концов, только утверждая, что человека заменить ничем нельзя. Он стоит на сцене, он маленький, но он объёмный, он дышит, и он такой же, как ты. И да, видео помогает ощутить это острее.
Историческая дата, которая вряд ли в моменте так воспринималась. А между тем роман театра с кино длится уже век — и театр не только не исчез, но наоборот, даже набрался сил за счёт родственного искусства. Как же так получилось?
С чего началось
Первым проекции в театре использовал немецкий режиссёр Эрвин Пискатор. Замечательное лицо в истории театра: именно он придумал Политический театр — легендарного прадедушку всех документальных театров мира.
Так что и проекции ему понадобились неспроста. В том спектакле 1924 года, «Знамёна», рассказывалось о несправедливо приговорённых к смертной казни чикагских рабочих (реальная история из 1880-х гг.). Пискатор вывел на экран портреты актёров, которые исполняли роли рабочих — и это был как будто бы документ, подтверждающий связь 80-х и 20-х.
Кстати, про крупные планы
Вы никогда не задумывались, зачем они используются в кино? В жизни мы видим в таких подробностях лица очень немногих людей, в основном родных и близких. По идее, оказавшись на критически маленькой дистанции, мы получаем возможность очень хорошо узнать человека, узнать, как и о чём он думает, какие чувства его одолевают.
Крупные планы воссоздают именно такой эффект: сближения с героем, заглядывания в его внутренний мир — поэтому мы начинаем сопереживать ему как реальному человеку. Представляете, как интересно получается, когда такое появляется в театре — где обычно мы в принципе не можем увидеть человека с расстояния меньше пары метров?
Сближение и отдаление
Но всё не так просто. Крупный план в кино — предельная степень близости к герою. А в театре — и так, и совершенно наоборот. Ведь как бы хорошо нам ни было видно с 20-го ряда (например) лицо Константина Богомолова в его же спектакле «Бесы Достоевского», мы не можем не замечать, что на экране — только проекция, а настоящий Богомолов — вот он, в ту же секунду стоит на сцене, довольно маленький, но черты лица рассмотреть можно.
Случается странное: мы узнаём и как будто бы не узнаём человека, сопоставляя реальную и видео-версии. И непонятно, какая из них важнее.
Альтернативная точка зрения
Как известно, спектакль, посмотренный с третьего яруса, и спектакль, посмотренный из первого ряда партера — это два разных спектакля. И «правильного» ракурса не существует.
Но ситуация меняется, когда в игру вступает пресловутый человек с киноаппаратом: ведь в кино-то ракурс всегда чётко определён! Записано ли видео заранее или, наоборот, снимается прямо во время спектакля — с какой точки смотреть на героев всё равно кто-то решил (обычно режиссёр, конечно). То есть, вместе с видео нам предлагается ещё и какое-то определённое видение событий. Иногда — конкретного героя, а иногда — неизвестного наблюдателя.
Расслоение реальности
А ещё нередко видео нужно, чтобы усложнить структуру спектакля. Например, у Кэти Митчелл в «Орландо» (Шаубюне, 2019), кино снимается параллельно действию на сцене все 2 часа спектакля.
Над сценой висит огромный экран, на котором есть и крупные планы, и общие, и даже сиюминутный монтаж — по сути, это отдельный аспект действия. Реальность и правда расслаивается: камеры словно бы ощупывают актрису и сцену, пытаясь понять, о чём же на самом деле эта история? Режиссёр не пытается упаковать роман Вирджинии Вульф в конкретной трактовку, но наоборот показывает всю его взбалмошность. И получается круто.
Кино как документ
Иногда видео превращается в полноценный документ: например, когда это реальная хроника, которая приносит на сцену артефакт реальности.
А бывает иначе. Например, в спектакле Волкострелова «Ленточки» (2021), посвящённому протестам в Беларуси, было много документальной съёмки красно-белых ленточек на улицах Минска. При этом никаких митингов и вообще человеческих лиц на съёмке не было: такая хроника молчаливого сопротивления. Вот только снято это было лирически, и реальный сюжет на глазах становился предметом искусства — не теряя при этом драматизма.
Вообще-то у видео на сцене не очень получается оставаться в роли документа: нести сухую и часто жестокую правду жизни. Мы всё равно будем воспринимать его как ещё одно измерение театральной реальности — но это вовсе не значит, что из какого-то остросоциального, болезненного материала мы не вынесем никаких смыслов, напротив.
Разница только в том, что мы воспримем его не так же, как очередную новость в тг-канале: от новостей мы — вольно или невольно — научились абстрагироваться, а вот от искусства — попробуй научись.
Кино в театре — всегда про границы подлинности. Про наши сомнения в том, насколько мы вообще понимаем друг друга и самих себя. Театр ХХ века почувствовал, что человек теряет способность к сопереживанию: это проклятье века информации — слишком много всего, слишком много катастроф, казалось бы, если всё знать, можно сойти с ума. Театр играет с кино, отражая расслоение современной реальности на физическую и экранную. Но, как ни странно, в конце концов, только утверждая, что человека заменить ничем нельзя. Он стоит на сцене, он маленький, но он объёмный, он дышит, и он такой же, как ты. И да, видео помогает ощутить это острее.
Театр зрителя
Любой порядочный театр нет-нет, да и скажет, что без зрителей вообще-то ничего бы не получилось. И это не просто красивые слова: действительно, хотя на большинстве спектаклей зритель — только безмолвный наблюдатель, его присутствие куда важнее, чем может показаться.
Что и говорить о перформансах, когда от выбора и решений зрителя-участника будет зависеть примерно всё.
Разбираемся, какие роли играл зритель в театре разных эпох, и какие из них существуют сейчас в новом лонгриде из рубрики #о_современном_театре_на_человеческом_языке
А вам нравится принимать участие в спектакле/перформансе? Или вы бы скорее выбрали позицию более отстранённого зрителя? Расскажите нам в комментариях!
До театра
Ещё никакого Софокла не было, а до-театральные формы уже были — в ритуальных практиках.
В ритуале есть жрец — человек, который совершает сакральное действие (подносит дар божеству, приносит жертву и т. д.), а есть те, кто стоит вокруг и смотрит. Но это не театральные зрители в привычном нам смысле слова: они совершенно не отстранены от происходящего, наоборот. Ведь если сейчас жрец неправильно жертву принесёт — дождь не пойдёт, урожая не будет, а значит, будет голод!
И нет в момент ритуала никого, кто мог бы позволить себе просто наблюдать за ним и воспринимать это как самоцель.
А и Б сидели на трубе
А потом Древняя Греция изобрела театр, и всё изменилось. Согласно идее Эрика Бентли, театр — это ситуация, когда «А играет B на глазах у C». То есть, актёр играет роль на глазах у зрителя.
А теперь почувствуйте разницу: «зритель» ритуала приходит, чтобы тоже попросить божество устроить наконец-то дождь — тогда как зритель в театре приходит, грубо говоря, чтобы просто посмотреть. Речь точно не идёт о том, чтобы вместе с актёром воззвать к каким-то высшим силам, да и жертвенного барашка театральный зритель точно с собой не приведёт.
Чувства С
Но это совершенно не значит, что зритель ничего не делает! Зритель как минимум испытывает какие-то чувства. И ни одного спектакля без пресловутой «отдачи» зала сыграть невозможно! То есть, можно, конечно, но вряд ли получится хорошо.
Дело вовсе не в том, что актёрам нужно одобрение. На самом деле ваша зрительская, эмоциональная реакция, даже если это не громкий смех или бурные рыдания, чувствуется по ту сторону рампы.
Коммуникация
Это обыкновенное чудо человеческой коммуникации: мы ведь нередко понимаем, в каком человек настроении или хотим мы с ним общаться или нет, просто немного побыв рядом, правда? Так и в театре. Когда «отдача» идёт, это позволяет актёрам посылать в зал ещё больше энергии и дальше по кругу — исследователь театра Эрика Фишер-Лихте назвала это петлёй ответной реакции.
Полная картина
А ещё в каком-то смысле именно в сознании зрителя и играется спектакль. Актёр всё время балансирует на грани реальности сцены и реальности закулисья, не видя происходящее в целом. Режиссёр, наоборот, всё прекрасно видит — но он видит так же и свой изначальный замысел, который, скорее всего, немного отличается.
И только зритель видит картину полностью, оставаясь при этом, как правило, достаточно беспристрастным по отношению к участникам спектакля.
А потом…
Такая стратегия присутствия относилась ко всему театру от Древней Греции до середины ХХ века. А вот к изобретённым в ХХ века перформативным практикам формула с A, B, C уже не очень-то и подходила.
Как говорится, «А упало, В пропало, С играет сам себе». Этот иронический парафраз формулы Бентли вообще-то достаточно точно отражает ситуацию перформанса: актёр в нём — уже не совсем актёр, а скорее участник, кого он играет, да и играет ли в целом — не очень понятно.
Зато происходит настоящая эмансипация зрителя.
В «классическом», если можно так сказать, перформансе, зритель-участник наблюдает за каким-то очень конкретным действием, даже если суть его совершенно непонятна. Например, художница Марина Абрамович в перформансе «Ритм 0» наносила себе настоящие раны, никак это не объясняя и не комментируя. Это был опыт публичного наблюдения за жесткостью — и готовности не вмешиваться до последнего.
А смысл был как раз-таки в том, чтобы пронаблюдать в какой момент люди в зале поймут, что надо художницу надо остановить.
То есть, всё зависит от того, как поступит зритель. Если бы Абрамович прервали в начале, она бы не успела нанести себе так много повреждений — исход перформанса был бы другим. На деле её остановили только по прошествии большого количества времени, что наверняка дало всем присутствующим опыт непростого морального выбора, вмешиваться или нет, ощущения собственной причастности — что и было важно для Абрамович.
Но далеко не все перформативные практики такие непростые по смыслу и по форме присутствия, как у Марины Абрамович. Многие опыты такого порядка могут носить даже терапевтический характер, помогать, например, средствами театра обнаружить свою общность людям, объединённым сходным травматическим опытом — и понять, что они не одиноки.
Вариантов множество, но всякий раз речь будет идти о совершенно другой роли, которую играет зритель. Считать ли такое искусство театром — вопрос открытый. Но нам кажется, что да.
Что и говорить о перформансах, когда от выбора и решений зрителя-участника будет зависеть примерно всё.
Разбираемся, какие роли играл зритель в театре разных эпох, и какие из них существуют сейчас в новом лонгриде из рубрики #о_современном_театре_на_человеческом_языке
А вам нравится принимать участие в спектакле/перформансе? Или вы бы скорее выбрали позицию более отстранённого зрителя? Расскажите нам в комментариях!
До театра
Ещё никакого Софокла не было, а до-театральные формы уже были — в ритуальных практиках.
В ритуале есть жрец — человек, который совершает сакральное действие (подносит дар божеству, приносит жертву и т. д.), а есть те, кто стоит вокруг и смотрит. Но это не театральные зрители в привычном нам смысле слова: они совершенно не отстранены от происходящего, наоборот. Ведь если сейчас жрец неправильно жертву принесёт — дождь не пойдёт, урожая не будет, а значит, будет голод!
И нет в момент ритуала никого, кто мог бы позволить себе просто наблюдать за ним и воспринимать это как самоцель.
А и Б сидели на трубе
А потом Древняя Греция изобрела театр, и всё изменилось. Согласно идее Эрика Бентли, театр — это ситуация, когда «А играет B на глазах у C». То есть, актёр играет роль на глазах у зрителя.
А теперь почувствуйте разницу: «зритель» ритуала приходит, чтобы тоже попросить божество устроить наконец-то дождь — тогда как зритель в театре приходит, грубо говоря, чтобы просто посмотреть. Речь точно не идёт о том, чтобы вместе с актёром воззвать к каким-то высшим силам, да и жертвенного барашка театральный зритель точно с собой не приведёт.
Чувства С
Но это совершенно не значит, что зритель ничего не делает! Зритель как минимум испытывает какие-то чувства. И ни одного спектакля без пресловутой «отдачи» зала сыграть невозможно! То есть, можно, конечно, но вряд ли получится хорошо.
Дело вовсе не в том, что актёрам нужно одобрение. На самом деле ваша зрительская, эмоциональная реакция, даже если это не громкий смех или бурные рыдания, чувствуется по ту сторону рампы.
Коммуникация
Это обыкновенное чудо человеческой коммуникации: мы ведь нередко понимаем, в каком человек настроении или хотим мы с ним общаться или нет, просто немного побыв рядом, правда? Так и в театре. Когда «отдача» идёт, это позволяет актёрам посылать в зал ещё больше энергии и дальше по кругу — исследователь театра Эрика Фишер-Лихте назвала это петлёй ответной реакции.
Полная картина
А ещё в каком-то смысле именно в сознании зрителя и играется спектакль. Актёр всё время балансирует на грани реальности сцены и реальности закулисья, не видя происходящее в целом. Режиссёр, наоборот, всё прекрасно видит — но он видит так же и свой изначальный замысел, который, скорее всего, немного отличается.
И только зритель видит картину полностью, оставаясь при этом, как правило, достаточно беспристрастным по отношению к участникам спектакля.
А потом…
Такая стратегия присутствия относилась ко всему театру от Древней Греции до середины ХХ века. А вот к изобретённым в ХХ века перформативным практикам формула с A, B, C уже не очень-то и подходила.
Как говорится, «А упало, В пропало, С играет сам себе». Этот иронический парафраз формулы Бентли вообще-то достаточно точно отражает ситуацию перформанса: актёр в нём — уже не совсем актёр, а скорее участник, кого он играет, да и играет ли в целом — не очень понятно.
Зато происходит настоящая эмансипация зрителя.
В «классическом», если можно так сказать, перформансе, зритель-участник наблюдает за каким-то очень конкретным действием, даже если суть его совершенно непонятна. Например, художница Марина Абрамович в перформансе «Ритм 0» наносила себе настоящие раны, никак это не объясняя и не комментируя. Это был опыт публичного наблюдения за жесткостью — и готовности не вмешиваться до последнего.
А смысл был как раз-таки в том, чтобы пронаблюдать в какой момент люди в зале поймут, что надо художницу надо остановить.
То есть, всё зависит от того, как поступит зритель. Если бы Абрамович прервали в начале, она бы не успела нанести себе так много повреждений — исход перформанса был бы другим. На деле её остановили только по прошествии большого количества времени, что наверняка дало всем присутствующим опыт непростого морального выбора, вмешиваться или нет, ощущения собственной причастности — что и было важно для Абрамович.
Но далеко не все перформативные практики такие непростые по смыслу и по форме присутствия, как у Марины Абрамович. Многие опыты такого порядка могут носить даже терапевтический характер, помогать, например, средствами театра обнаружить свою общность людям, объединённым сходным травматическим опытом — и понять, что они не одиноки.
Вариантов множество, но всякий раз речь будет идти о совершенно другой роли, которую играет зритель. Считать ли такое искусство театром — вопрос открытый. Но нам кажется, что да.
Театр и государство
«Откуда взялись негосударственные театры?» Именно этот вопрос мы себе задали, перед тем как начать писать новый лонгрид. Но, как и всегда, оказалось, что ничто не ново под Луной.
Мы привыкли думать, что весь театр до начала нашего века был сплошь академический, государственный и только на дотации живущий. А вот и нет: гос театр, каким мы с вами привыкли его видеть — явление XIX, а то и XX века. А до этого времени произошло ещё много всего интересного.
Как так вышло, что театр очень долго хотел быть государственным, а потом передумал, сколько негосов было в Петербурге 90-х и почему древние греки (как и всегда) не поняли бы наших проблем — читайте в нашем новом разборе из рубрики #о_современном_театре_на_человеческом_языке
Начнём, как обычно с Древней Греции
Было бы странно, если бы мы так не поступили, правда? А что поделать, у греков было удивительно цельное сознание, которому современный человек может только позавидовать.
Никакого конфликта между государственным и не- у них быть не могло. Театр был делом огромной социально-политической важности, на спектакле обязаны были присутствовать все свободные граждане — поэтому количество мест в амфитеатре ровно соответствовало, собственно, количеству потенциальных зрителей. И не прийти было нельзя! А сидели они там, между прочим, от рассвета до заката.
Что-то пошло не так…
Роль театра сильно изменилась ещё в Римской империи. Римлянам очень хотелось всё сделать по-своему, так что театр у них принял форму скорее развлекательную (внимание! у греков такого не было!).
Но совсем беда-беда началась в Средневековье. Церкви сама идея театра совершенно не нравилась. Синтетическое искусство, в котором велика роль, говоря современным языком, пластики и работы с телом в целом, совершенно было не ко двору новому мировидению с его культом аскезы и намеренным противопоставлением бренного тела и высокого духа. Так что если вам интересно, откуда взялась идея о том, что «театр — от дьявола» — отсюда.
Площадные фарсы
Между тем именно здесь, где возникло очевидное притеснение, возникла и некая форма «неофициального» театра. «Официальный» зарождался внутри самой церковной службы: нужно было как-то иллюстрировать для прихожан, которые не знают латынь, о чём вообще речь.
А другая театральная форма жила в площадных фарсах, адресованных самой простой публике, которая ценила их злободневность. Содержание их сегодня могло бы котироваться даже не как 18+, а как 21+, никаким высоким размышлениям там места не было. Зато фарсы были пространством развития актёрской техники.
Бездомный театр
Эпоха Возрождения вместе с идеалами греческой культуры достала из сундука и театр. Площадные формы продолжали развиваться, но, в противовес им, появилась так называемая «учёная комедия»: образованные богачи писали пьесы, вдохновляясь античными авторами. Так постепенно формировался интеллектуальный, элитарный театр — и домашний театр, кстати, тоже.
А между тем по всей Европе появляются независимые труппы. Где-то они выступают во дворах гостиниц, где-то — в домах знатных людей. А в Испании даже на религиозных празднествах. Но живётся им непросто везде.
Как театр захотел стать государственным
В разных странах Европы условия для таких трупп были разными, но почти везде театр а) набирал огромную популярность, б) страдал от переменчивости симпатий толпы и нередко — от нищеты. Актёрам нужно было или переезжать с места на место, или отдавать большую часть дохода арендодателям. А ещё нужно было покупать очень дорогие костюмы. Про реализм и историзм в XVI-XVII веках никто ещё даже не слышал: театр должен был воссоздавать картины прекрасного мира.
Так что театральные кампании времён Шекспира никаких дотаций как правило не получали. Но скоро ситуация изменилась.
…и продолжал хотеть ещё очень долго
По мере того, как театр развивался, государству стало понятно, что его нужно поддержать в интересах просвещения. А заодно — чтобы контролировать. Так, например, в 1680 г. открывается театр «Комеди Франсез» — самый привилегированный и академический и по сей день.
Поддержка государства для театра означала, в сущности, одно — возможность профессионализации. Цензура всё равно могла запретить что угодно, так что вплоть до конца XIX века выбор в пользу дотаций был вполне очевиден.
Очень маленький и очень независимый
Театр на 50-100 мест для эстетов / бунтарей / экспериментаторов — открытие начала ХХ века. К этому моменту академическая сцена и во всей Европе, и в России достигла того самого профессионализма — и тут же стало понятно, что времена изменились, и традиция нуждается в обновлении. Дело ещё и в публике: появились те самые искушённые зрители, которых в XVII веке ещё просто не было.
Во Франции 1880-90х гг. открываются «Свободный театр» и «Театр Творчества», с которых, как потом окажется начнётся история театра нового века. А в России, например, критик Александр Кугель создаёт свой театр «Кривое зеркало», остроумно высмеивающий императорскую сцену.
[А потом всё запретили]
А вот быть независимым режиссёром в СССР можно было только двумя способами. Первый вариант — балансировать на грани и разрушать систему изнутри, пока она сама того не замечает. Так делал, например, Игорь Владимиров.
Второй вариант — уйти в подполье, исследовать и собирать вокруг себя учеников. Так делал Борис Понизовский: именно из его лаборатории «ДаНет» вышли создатели театра АХЕ.
В начале 1990-х гг. в Петербурге было около 400 независимых театров. Просто потому что наконец-то стало можно. Вместе с тем сами госы вдруг опустели: то ли не на что было их поддерживать, то ли сама новая реальность вдруг отвлекла внимание от сцены.
На вопрос «почему именно в Петербурге?» ответить сложнее. Возможно, потому что в 90-е здесь ещё можно было жить и что-то делать за копейки, по дружбе — в отличие от Москвы.
То, к чему театр стремился несколько веков — поддержка, профессионализация, образование — постепенно обернулось рождением жёсткой системы репертуарного театра, которая и в более спокойные времена подходила далеко не всем. А негос театр предложил альтернативную модель — не такую безопасную, зато построенную на идее свободы. Оказалось, что профессионализм не измеряется количеством званий, а созвучие современности — интереснее выполнения репертуарного плана.
Острая антиномия госов и негосов наблюдается в основном на фоне постепенного улучшения благосостояния первой категории. К началу ХХI века и там, и там работают люди с профессиональным образованием
Мы привыкли думать, что весь театр до начала нашего века был сплошь академический, государственный и только на дотации живущий. А вот и нет: гос театр, каким мы с вами привыкли его видеть — явление XIX, а то и XX века. А до этого времени произошло ещё много всего интересного.
Как так вышло, что театр очень долго хотел быть государственным, а потом передумал, сколько негосов было в Петербурге 90-х и почему древние греки (как и всегда) не поняли бы наших проблем — читайте в нашем новом разборе из рубрики #о_современном_театре_на_человеческом_языке
Начнём, как обычно с Древней Греции
Было бы странно, если бы мы так не поступили, правда? А что поделать, у греков было удивительно цельное сознание, которому современный человек может только позавидовать.
Никакого конфликта между государственным и не- у них быть не могло. Театр был делом огромной социально-политической важности, на спектакле обязаны были присутствовать все свободные граждане — поэтому количество мест в амфитеатре ровно соответствовало, собственно, количеству потенциальных зрителей. И не прийти было нельзя! А сидели они там, между прочим, от рассвета до заката.
Что-то пошло не так…
Роль театра сильно изменилась ещё в Римской империи. Римлянам очень хотелось всё сделать по-своему, так что театр у них принял форму скорее развлекательную (внимание! у греков такого не было!).
Но совсем беда-беда началась в Средневековье. Церкви сама идея театра совершенно не нравилась. Синтетическое искусство, в котором велика роль, говоря современным языком, пластики и работы с телом в целом, совершенно было не ко двору новому мировидению с его культом аскезы и намеренным противопоставлением бренного тела и высокого духа. Так что если вам интересно, откуда взялась идея о том, что «театр — от дьявола» — отсюда.
Площадные фарсы
Между тем именно здесь, где возникло очевидное притеснение, возникла и некая форма «неофициального» театра. «Официальный» зарождался внутри самой церковной службы: нужно было как-то иллюстрировать для прихожан, которые не знают латынь, о чём вообще речь.
А другая театральная форма жила в площадных фарсах, адресованных самой простой публике, которая ценила их злободневность. Содержание их сегодня могло бы котироваться даже не как 18+, а как 21+, никаким высоким размышлениям там места не было. Зато фарсы были пространством развития актёрской техники.
Бездомный театр
Эпоха Возрождения вместе с идеалами греческой культуры достала из сундука и театр. Площадные формы продолжали развиваться, но, в противовес им, появилась так называемая «учёная комедия»: образованные богачи писали пьесы, вдохновляясь античными авторами. Так постепенно формировался интеллектуальный, элитарный театр — и домашний театр, кстати, тоже.
А между тем по всей Европе появляются независимые труппы. Где-то они выступают во дворах гостиниц, где-то — в домах знатных людей. А в Испании даже на религиозных празднествах. Но живётся им непросто везде.
Как театр захотел стать государственным
В разных странах Европы условия для таких трупп были разными, но почти везде театр а) набирал огромную популярность, б) страдал от переменчивости симпатий толпы и нередко — от нищеты. Актёрам нужно было или переезжать с места на место, или отдавать большую часть дохода арендодателям. А ещё нужно было покупать очень дорогие костюмы. Про реализм и историзм в XVI-XVII веках никто ещё даже не слышал: театр должен был воссоздавать картины прекрасного мира.
Так что театральные кампании времён Шекспира никаких дотаций как правило не получали. Но скоро ситуация изменилась.
…и продолжал хотеть ещё очень долго
По мере того, как театр развивался, государству стало понятно, что его нужно поддержать в интересах просвещения. А заодно — чтобы контролировать. Так, например, в 1680 г. открывается театр «Комеди Франсез» — самый привилегированный и академический и по сей день.
Поддержка государства для театра означала, в сущности, одно — возможность профессионализации. Цензура всё равно могла запретить что угодно, так что вплоть до конца XIX века выбор в пользу дотаций был вполне очевиден.
Очень маленький и очень независимый
Театр на 50-100 мест для эстетов / бунтарей / экспериментаторов — открытие начала ХХ века. К этому моменту академическая сцена и во всей Европе, и в России достигла того самого профессионализма — и тут же стало понятно, что времена изменились, и традиция нуждается в обновлении. Дело ещё и в публике: появились те самые искушённые зрители, которых в XVII веке ещё просто не было.
Во Франции 1880-90х гг. открываются «Свободный театр» и «Театр Творчества», с которых, как потом окажется начнётся история театра нового века. А в России, например, критик Александр Кугель создаёт свой театр «Кривое зеркало», остроумно высмеивающий императорскую сцену.
[А потом всё запретили]
А вот быть независимым режиссёром в СССР можно было только двумя способами. Первый вариант — балансировать на грани и разрушать систему изнутри, пока она сама того не замечает. Так делал, например, Игорь Владимиров.
Второй вариант — уйти в подполье, исследовать и собирать вокруг себя учеников. Так делал Борис Понизовский: именно из его лаборатории «ДаНет» вышли создатели театра АХЕ.
В начале 1990-х гг. в Петербурге было около 400 независимых театров. Просто потому что наконец-то стало можно. Вместе с тем сами госы вдруг опустели: то ли не на что было их поддерживать, то ли сама новая реальность вдруг отвлекла внимание от сцены.
На вопрос «почему именно в Петербурге?» ответить сложнее. Возможно, потому что в 90-е здесь ещё можно было жить и что-то делать за копейки, по дружбе — в отличие от Москвы.
То, к чему театр стремился несколько веков — поддержка, профессионализация, образование — постепенно обернулось рождением жёсткой системы репертуарного театра, которая и в более спокойные времена подходила далеко не всем. А негос театр предложил альтернативную модель — не такую безопасную, зато построенную на идее свободы. Оказалось, что профессионализм не измеряется количеством званий, а созвучие современности — интереснее выполнения репертуарного плана.
Острая антиномия госов и негосов наблюдается в основном на фоне постепенного улучшения благосостояния первой категории. К началу ХХI века и там, и там работают люди с профессиональным образованием
Что такое реализм
Казалось бы, какие могут быть трудности со словом «реализм». Если всё, что происходит в спектакле, происходит «как в жизни» — значит, он реалистический? Как бы не так.
На самом деле, никто толком не знает, откуда и когда появился театральный реализм. По сути, подражать жизни можно очень по-разному — потому что и воспринимаем жизнь мы с вами каждый по-своему: на почве разницы восприятий, как известно, выросла живопись импрессионизма. Но и не только она!
Слово «реализм» современному зрителю нужно не просто так: обычно «реалистическое» противопоставляют «современному». То есть, если все бегают голые и странно кричат — значит, это «современный театр», а если все надели исторические костюмы — «реалистический». Но, согласитесь, всё не так просто.
Проблема в том, что в театре всё равно всегда есть условность: ведь все находящиеся в зале прекрасно понимают, что актёр на сцене на самом деле — никакой не принц Датский. Кроме того, что ты ни делай, всё равно есть условность времени: в спектакле могут проходить годы, а в реальности действие идёт 2-3 часа.
То есть, даже самый что ни на есть реалистический театр всё равно в значительной степени условен. Так что, когда мы говорим «реализм», мы имеем в виду только желание подражать реальности, а не факт этого сходства. Логичный вопрос: когда и почему у деятелей театра в принципе возникло такая потребность?
Интерес к реализму — прямое следствие научных открытий Нового времени, в частности — рождения науки психологии.
Спойлер: пока светских стран не существовало как вида и все общества были религиозны, никакой реализм людям нужен не был.
Разбираемся, почему так вышло:
Театральное искусство как таковое, как известно, началось в Древней Греции. На спектакль обязательно должны были прийти все граждане полиса, но что они там смотрели? Великие и страшные истории, основанные на всем им прекрасно известных мифах — а вовсе не картины из жизни обычного грека. В каком-то смысле театр был для них священнодействием.
А между тем известно, что даже форма реалистической живописи существовала уже в античности — это, в частности, фаюмские портреты. То есть, проблема не в том, что люди в античности не могли воспроизвести реальность, как она есть — им просто это было не нужно.
Можно сделать небольшой пробег по истории, чтобы понять, что такой потребности не было долго. В Древнем Риме театр стал развлечением, в Средние века — либо иллюстрацией церковной службы, либо масочным балаганом.
Эпоху Возрождения интересовало возвращение к образу идеального человека античности. Просвещение пыталось с помощью искусства научить человека доброму и прекрасному, но опять-таки, в идеализированном понимании; романтизм — когда Просветительский проект потерпел крах — отразить бурю страстей человеческих.
Строго говоря, нигде здесь нет места программному подражанию жизни.
Театр так или иначе всегда интересовало нечто большее, чем реальность и быт: что-то находящееся за рамками физической действительности.В Средние века вообще считалось, что реальность физическая — это грязь, и её нужно преодолеть. Да и Просветители в целом считали, что человек должен перерасти и себя, и свои бытовые трудности.
Отдельные эксперименты в поле реализма, конечно, были. Например, в XIX веке английский актёр Чарльз Кин изобретает что-то вроде историзма в театре: он до мельчайших деталей продумывает декорационное оформление, чтобы ни одна подробность не выбивалась из антуража той эпохи, о которой идёт речь.
Ситуация начала меняться в XIX веке: когда в принципе появилась идея о том, что, может быть, реальность интересна и сама по себе, без каких-то высших смыслов.
А потом Ницше сказал, что Бог умер, и всё изменилось. Философ, собственно, имел в виду, что Бог перестал слышать человека — то есть, если прозой: общество в глобальном смысле стало светским. То есть, человек остался наедине со своей физической реальностью — потому что не факт, что за её пределами в принципе что-то есть. Тут-то и пришло время реализма.
В верности реализму клялся и божился прежде всего советский театр — ссылаясь, прямо как на божество, на Станиславского. Действительно, именно МХТ Станиславского — самый что ни на есть яркий пример реализма. Но воспроизвести реальность в полном объёме на сцене невозможно — и Станиславский тоже этого не делал (и не стремился).
Спектакли раннего МХТ — это образец психологической игры. Партитура внутреннего мира героев была так тонко и талантливо продумана, что сами действующие лица были невероятно похожи на нас с вами. Ради этого Станиславский придумал 4-ю стену, ради этого его актёры наблюдали учились копировать реальных людей. То есть, даже у Станиславского речь идёт исключительно про психологический реализм — реализм чувств и эмоций.
Однако весь ХХ век параллельно с психологическим реализмом Станиславского рождались и развивались концепции, которые реалистическими в том же смысле слова точно не назвать: Брехта, Пиранделло, Гротовского, Брука. И, вообще-то говоря, весь наш с вами современный театр (в том числе с голыми людьми и криками) — родом именно из этой части ХХ века.
Факт того, что человек остался наедине с реальностью, можно осмыслять по-разному. Не только искусство, но и философия ХХ века приходят к мысли, что с термином «реальность» есть проблемы — потому что для каждого она своя. Именно поэтому людям порой так трудно договориться — об этом размышляют и многие режиссёры прошлого и нынешнего века.
Так что же, никакого реализма не существует?
Как целостного явления или, тем более (тем менее), жанра — наверное, нет. Однако признаки реализма можно отыскать практически везде. Вопрос в пластичности трактовок слова. В каком-то смысле всё сущее реально: и, например, спектакль, в котором само пространство — это образ памяти героини (намекаем на «Комнату Герды»), тоже по-своему очень реалистичен.
Хотя в целом это очень сложный и малоизученный вопрос. Тем интереснее наблюдать за тем, как категория реализма меняется в современном театре.
На самом деле, никто толком не знает, откуда и когда появился театральный реализм. По сути, подражать жизни можно очень по-разному — потому что и воспринимаем жизнь мы с вами каждый по-своему: на почве разницы восприятий, как известно, выросла живопись импрессионизма. Но и не только она!
Слово «реализм» современному зрителю нужно не просто так: обычно «реалистическое» противопоставляют «современному». То есть, если все бегают голые и странно кричат — значит, это «современный театр», а если все надели исторические костюмы — «реалистический». Но, согласитесь, всё не так просто.
Проблема в том, что в театре всё равно всегда есть условность: ведь все находящиеся в зале прекрасно понимают, что актёр на сцене на самом деле — никакой не принц Датский. Кроме того, что ты ни делай, всё равно есть условность времени: в спектакле могут проходить годы, а в реальности действие идёт 2-3 часа.
То есть, даже самый что ни на есть реалистический театр всё равно в значительной степени условен. Так что, когда мы говорим «реализм», мы имеем в виду только желание подражать реальности, а не факт этого сходства. Логичный вопрос: когда и почему у деятелей театра в принципе возникло такая потребность?
Интерес к реализму — прямое следствие научных открытий Нового времени, в частности — рождения науки психологии.
Спойлер: пока светских стран не существовало как вида и все общества были религиозны, никакой реализм людям нужен не был.
Разбираемся, почему так вышло:
Театральное искусство как таковое, как известно, началось в Древней Греции. На спектакль обязательно должны были прийти все граждане полиса, но что они там смотрели? Великие и страшные истории, основанные на всем им прекрасно известных мифах — а вовсе не картины из жизни обычного грека. В каком-то смысле театр был для них священнодействием.
А между тем известно, что даже форма реалистической живописи существовала уже в античности — это, в частности, фаюмские портреты. То есть, проблема не в том, что люди в античности не могли воспроизвести реальность, как она есть — им просто это было не нужно.
Можно сделать небольшой пробег по истории, чтобы понять, что такой потребности не было долго. В Древнем Риме театр стал развлечением, в Средние века — либо иллюстрацией церковной службы, либо масочным балаганом.
Эпоху Возрождения интересовало возвращение к образу идеального человека античности. Просвещение пыталось с помощью искусства научить человека доброму и прекрасному, но опять-таки, в идеализированном понимании; романтизм — когда Просветительский проект потерпел крах — отразить бурю страстей человеческих.
Строго говоря, нигде здесь нет места программному подражанию жизни.
Театр так или иначе всегда интересовало нечто большее, чем реальность и быт: что-то находящееся за рамками физической действительности.В Средние века вообще считалось, что реальность физическая — это грязь, и её нужно преодолеть. Да и Просветители в целом считали, что человек должен перерасти и себя, и свои бытовые трудности.
Отдельные эксперименты в поле реализма, конечно, были. Например, в XIX веке английский актёр Чарльз Кин изобретает что-то вроде историзма в театре: он до мельчайших деталей продумывает декорационное оформление, чтобы ни одна подробность не выбивалась из антуража той эпохи, о которой идёт речь.
Ситуация начала меняться в XIX веке: когда в принципе появилась идея о том, что, может быть, реальность интересна и сама по себе, без каких-то высших смыслов.
А потом Ницше сказал, что Бог умер, и всё изменилось. Философ, собственно, имел в виду, что Бог перестал слышать человека — то есть, если прозой: общество в глобальном смысле стало светским. То есть, человек остался наедине со своей физической реальностью — потому что не факт, что за её пределами в принципе что-то есть. Тут-то и пришло время реализма.
В верности реализму клялся и божился прежде всего советский театр — ссылаясь, прямо как на божество, на Станиславского. Действительно, именно МХТ Станиславского — самый что ни на есть яркий пример реализма. Но воспроизвести реальность в полном объёме на сцене невозможно — и Станиславский тоже этого не делал (и не стремился).
Спектакли раннего МХТ — это образец психологической игры. Партитура внутреннего мира героев была так тонко и талантливо продумана, что сами действующие лица были невероятно похожи на нас с вами. Ради этого Станиславский придумал 4-ю стену, ради этого его актёры наблюдали учились копировать реальных людей. То есть, даже у Станиславского речь идёт исключительно про психологический реализм — реализм чувств и эмоций.
Однако весь ХХ век параллельно с психологическим реализмом Станиславского рождались и развивались концепции, которые реалистическими в том же смысле слова точно не назвать: Брехта, Пиранделло, Гротовского, Брука. И, вообще-то говоря, весь наш с вами современный театр (в том числе с голыми людьми и криками) — родом именно из этой части ХХ века.
Факт того, что человек остался наедине с реальностью, можно осмыслять по-разному. Не только искусство, но и философия ХХ века приходят к мысли, что с термином «реальность» есть проблемы — потому что для каждого она своя. Именно поэтому людям порой так трудно договориться — об этом размышляют и многие режиссёры прошлого и нынешнего века.
Так что же, никакого реализма не существует?
Как целостного явления или, тем более (тем менее), жанра — наверное, нет. Однако признаки реализма можно отыскать практически везде. Вопрос в пластичности трактовок слова. В каком-то смысле всё сущее реально: и, например, спектакль, в котором само пространство — это образ памяти героини (намекаем на «Комнату Герды»), тоже по-своему очень реалистичен.
Хотя в целом это очень сложный и малоизученный вопрос. Тем интереснее наблюдать за тем, как категория реализма меняется в современном театре.
Почему все так любят восток
На Марсе Востоке классно
Интерес деятелей искусства к Востоку — феномен ХХ века. Это время глобальных катастроф и растерянности Европы перед их последствиями. Так что на «другую планету» представители нашей с вами культурной модели отправились за ответами.
Секрет в том, что восточная версия мира по своей природе куда более гармонична, чем европейская. Она завораживает и очаровывает. И да, даёт мятежному духу какие-то хоть ответы (ну, в теории).
«Смерти нет, есть только ветер»
Это строчка из песни, но она отражает удивительное свойство восточного мировоззрения. Смерть, конечно, на Востоке не отрицают — но она вовсе не воспринимается как трагедия. Зачем горевать, если ты всё равно переродишься — котом, цветочком или снова человеком?
В европейской традиции совсем наоборот: факт конечности жизни — главная мировоззренческая катастрофа. Испокон веков каждый ребёнок переходит своеобразный рубеж взросления, осознавая свою смертность, испокон веков религии помогают людям подготовиться к смерти. Короче, для европейца смерть — это проблема, а для человека с Востока — нет.
Что всё смерть да смерть? Это правда так важно?
Да! Однажды древний грек задумался о смерти — так и начался театр в современном понимании слова. Ладно, на самом деле таких греков было много, но это подробности. Главное, что это произошло, когда люди начали жить в городах — то есть, в полисах.
Горожанин уже не так сильно ощущает свою связь с родом, предками, землёй. Есть даже такой термин — родоплеменное сознание. Его носитель вообще не воспринимает себя как что-то отдельное от рода и, соответственно, о смерти не беспокоится: ведь его жизнь продолжится в жизни его многочисленных детей. А житель полиса мыслит уже по-другому — и осознаёт, что дети детьми, но его жизнь однажды закончится.
Единство всего сущего
На Востоке человек — часть природы, а природа — часть человека. Поэтому они и не относятся к ней как к материалу или как к чему-то, что можно и нужно покорить. Так, например, индийские боги похожи на людей, но в них сохраняются и природные стихии.
В природе день неизменно сменяется ночью, в самый светлый день появляются тени — и так далее: восточная философия утверждает принятие и созерцание и тёмного, и светлого в мире, попросту не воспринимая это как противоречие. Так что, когда в древнеиндийской пьесе Калидасы «Сакунтала» всё живое принимает участие в происходящем с героиней — это не просто ради красоты сделано.
Нирвана и пустота
Буквальный перевод слова — небытие. Речь всё о том же: свет и тень — две стороны одного явления, по отдельности они существовать не могут. Более того, все вещи в мире появляются в бытии, а бытие, в свою очередь, рождается из небытия. Красиво, правда?
Поэтому самая большая ценность в этой философии — пустота. Логика простая: если всё твоё сознание заполнено уже существующими вещами — откуда появиться чему-то новому? И это не про творчество, это про созидание в целом. Чтобы открыться ему, нужно впустить в своё сознание небытие.
Конфликта нет
Если вы раньше уже читали наши лонгриды, то точно знаете нашу любимую идею: конфликт — основа всего, без конфликта нет театра! Так вот, вдумайтесь: на Востоке смерть — не проблема, человек — часть природы, жизнь циклична. Конфликту в этой философии просто неоткуда взяться.
Это заметно, например, если сравнить два ключевых эпоса: «Илиаду»/ «Одиссею» Гомера — и «Махабхарату» Вьясы. У Гомера всё начинается с войны из-за многострадальной Елены. В «Махабхарате» же воют два брата, вот только у Гомера кто-то обязательно выиграет, а у Вьясы — нет! Потому что в конце концов, бытие неизбежно совершенно.
Времени нет
Каждую секунду настоящее становится прошлым: казалось бы, и мы с вами это прекрасно понимаем, но всё-таки европейский человек держится за структуру прошлого, настоящего и будущего и не торопится её отменять. А в восточной философии такой особой категории как время просто нет: например, в санскрите «время» и «пространство» — это одно слово. Ровно так же, как «вечность» и «пустота»: время превращается в вечность и великое небытие.
И меня тоже нет
Улавливаете, к чему мы? Чтобы вступить в конфликт с мирозданием, другим человеком или даже с собой, нужно полагать себя и свою самость завершённой. Но, как мы уже поняли, пустота — бесценный дар: поэтому и человек в восточном искусстве (идеальный человек) пуст и прозрачен. В несвойственном нам положительном понимании слова: он пуст, потому что его переполняет и без того совершенный мир.
И никакого бремени страстей человеческих. Ложное чувство, обман сердца приходит и уходит: ни то, ни другое не является сущностным.
Интерес деятелей искусства к Востоку — феномен ХХ века. Это время глобальных катастроф и растерянности Европы перед их последствиями. Так что на «другую планету» представители нашей с вами культурной модели отправились за ответами.
Секрет в том, что восточная версия мира по своей природе куда более гармонична, чем европейская. Она завораживает и очаровывает. И да, даёт мятежному духу какие-то хоть ответы (ну, в теории).
«Смерти нет, есть только ветер»
Это строчка из песни, но она отражает удивительное свойство восточного мировоззрения. Смерть, конечно, на Востоке не отрицают — но она вовсе не воспринимается как трагедия. Зачем горевать, если ты всё равно переродишься — котом, цветочком или снова человеком?
В европейской традиции совсем наоборот: факт конечности жизни — главная мировоззренческая катастрофа. Испокон веков каждый ребёнок переходит своеобразный рубеж взросления, осознавая свою смертность, испокон веков религии помогают людям подготовиться к смерти. Короче, для европейца смерть — это проблема, а для человека с Востока — нет.
Что всё смерть да смерть? Это правда так важно?
Да! Однажды древний грек задумался о смерти — так и начался театр в современном понимании слова. Ладно, на самом деле таких греков было много, но это подробности. Главное, что это произошло, когда люди начали жить в городах — то есть, в полисах.
Горожанин уже не так сильно ощущает свою связь с родом, предками, землёй. Есть даже такой термин — родоплеменное сознание. Его носитель вообще не воспринимает себя как что-то отдельное от рода и, соответственно, о смерти не беспокоится: ведь его жизнь продолжится в жизни его многочисленных детей. А житель полиса мыслит уже по-другому — и осознаёт, что дети детьми, но его жизнь однажды закончится.
Единство всего сущего
На Востоке человек — часть природы, а природа — часть человека. Поэтому они и не относятся к ней как к материалу или как к чему-то, что можно и нужно покорить. Так, например, индийские боги похожи на людей, но в них сохраняются и природные стихии.
В природе день неизменно сменяется ночью, в самый светлый день появляются тени — и так далее: восточная философия утверждает принятие и созерцание и тёмного, и светлого в мире, попросту не воспринимая это как противоречие. Так что, когда в древнеиндийской пьесе Калидасы «Сакунтала» всё живое принимает участие в происходящем с героиней — это не просто ради красоты сделано.
Нирвана и пустота
Буквальный перевод слова — небытие. Речь всё о том же: свет и тень — две стороны одного явления, по отдельности они существовать не могут. Более того, все вещи в мире появляются в бытии, а бытие, в свою очередь, рождается из небытия. Красиво, правда?
Поэтому самая большая ценность в этой философии — пустота. Логика простая: если всё твоё сознание заполнено уже существующими вещами — откуда появиться чему-то новому? И это не про творчество, это про созидание в целом. Чтобы открыться ему, нужно впустить в своё сознание небытие.
Конфликта нет
Если вы раньше уже читали наши лонгриды, то точно знаете нашу любимую идею: конфликт — основа всего, без конфликта нет театра! Так вот, вдумайтесь: на Востоке смерть — не проблема, человек — часть природы, жизнь циклична. Конфликту в этой философии просто неоткуда взяться.
Это заметно, например, если сравнить два ключевых эпоса: «Илиаду»/ «Одиссею» Гомера — и «Махабхарату» Вьясы. У Гомера всё начинается с войны из-за многострадальной Елены. В «Махабхарате» же воют два брата, вот только у Гомера кто-то обязательно выиграет, а у Вьясы — нет! Потому что в конце концов, бытие неизбежно совершенно.
Времени нет
Каждую секунду настоящее становится прошлым: казалось бы, и мы с вами это прекрасно понимаем, но всё-таки европейский человек держится за структуру прошлого, настоящего и будущего и не торопится её отменять. А в восточной философии такой особой категории как время просто нет: например, в санскрите «время» и «пространство» — это одно слово. Ровно так же, как «вечность» и «пустота»: время превращается в вечность и великое небытие.
И меня тоже нет
Улавливаете, к чему мы? Чтобы вступить в конфликт с мирозданием, другим человеком или даже с собой, нужно полагать себя и свою самость завершённой. Но, как мы уже поняли, пустота — бесценный дар: поэтому и человек в восточном искусстве (идеальный человек) пуст и прозрачен. В несвойственном нам положительном понимании слова: он пуст, потому что его переполняет и без того совершенный мир.
И никакого бремени страстей человеческих. Ложное чувство, обман сердца приходит и уходит: ни то, ни другое не является сущностным.